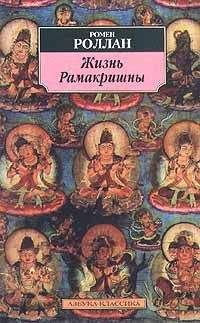Ромен Роллан - Жизнь Микеланджело
«Я получил Ваше письмо, которому безмерно обрадовался уже потому, что никак его не ожидал. Не ожидал, ибо не считаю себя достойным получать письма от такого человека, как Вы. Если даже Вам и отзывались обо мне с похвалой и если, как Вы уверяете, Вам понравились мои работы, все же этого недостаточно, чтобы человек, обладающий Вашим гением, гением, которому в наше время нет равного на земле, писал юноше, делающему лишь первые шаги и совершенно еще невежественному. Но, я знаю, Вы не можете лгать. Что же до Вашего расположения ко мне, я верю, более того – я убежден, что в Вас говорит любовь человека, который есть само олицетворение искусства, ко всем людям, кон посвятили себя искусству и истинно любят его. Я принадлежу к их числу и в ревности своей к искусству могу поспорить с кем угодно. Можете не сомневаться в моих чувствах к Вам: никого я так не любил и ничьей дружбы не желал так, как Вашей. Я надеюсь, что смогу быть Вам при случае полезен и вверяю себя Вашей дружбе.
Навеки Ваш, преданный Вам Томмазо Кавальери».[222]По всей видимости, он неизменно придерживался с Микеланджело такого сердечного и вместе с тем сдержанного и почтительного тона. Он оставался верен Микеланджело до его последнего часа, свидетелем которого был, и навсегда сохранил его доверие. Это, говорят, единственный человек, к голосу которого Микеланджело прислушивался, и надо сказать к чести Кавальери, что он использовал свое влияние во благо и к славе своего великого друга. Именно Кавальери убедил Микеланджело закончить деревянную модель купола собора св. Петра. Именно он сохранил нам планы перестройки Капитолия и положил немало труда на то, чтобы их осуществить. И, наконец, он же, после смерти Микеланджело, был исполнителем его последней воля.
Но дружба Микеланджело к Кавальери походила на любовное безумие. Он писал юноше исступленные письма, чуть ли не на коленях обращаясь к своему кумиру.[223]
Он называет Кавальери «могучим гением… чудом… светочем века», умоляет «не презирать его за то, что он, Микеланджело, не может сравниться с тем, кому нет равных». Он приносит ему в дар все свое настоящее и будущее и добавляет:
«Мне бесконечно больно, что я не могу отдать Вам также и свое прошлое, чтобы служить Вам как можно дольше, ибо будущего мне отпущено мало, я уже стар…[224] Я уверен, что ничто не нарушит нашей дружбы, хотя говорю, быть может, слишком самонадеянно, ибо, конечно, Вас не стою…[225] Забыть Ваше имя для меня так же невозможно, как забыть о хлебе насущном, нет, я скорее забуду о хлебе насущном, который поддерживает лишь мое бренное тело, не доставляя никакой радости, чем Ваше имя, которое поддерживает и тело и душу, наполняя их таким блаженством, что, пока я думаю о Вас, я ее чувствую ни страданий, ни страха смерти…[226] Душа моя в руках того, кому я ее вверил…[227] Если бы мне сказали: перестань думать о нем, мне кажется, я тут же бы умер».[228]
Он подносит Кавальери великолепные подарки:
«Удивительные рисунки, чудесные наброски голов красным и черным карандашом, которые он сделал, желая научить юношу рисовать. Потом он нарисовал для него Ганимеда, похищаемого Зевсовым орлом, Тития, у которого коршун пожирает сердце, падение колесницы Солнца с Фаэтоном в реку По и вакханалию младенцев – все произведения редкой красоты и изумительного совершенства».[229]
Он посылает ему также стихи, нередко превосходные, порой неясные; отдельные сонеты этого цикла читались в литературных кружках и вскоре стали известны по всей Италии.[230]
О нижеследующем сонете говорили, что это «вершина итальянской лирики XVI в.»:[231]
Прекрасными глазами вашими вижу я утешительный свет, который не дано видеть незрячим глазам моим. Ноги ваши помогают нести бремя, которое стало не под силу моим ослабевшим ногам. Дух ваш возносит меня в небеса. Моя воля стала вашею волей. Мысли мои слагаются в вашем сердце, а слова – в дыханье вашем. Оставшись один, я подобен луне, которую видно на небе, лишь когда солнце дарит ей свое сияние.[232]
Еще более известен другой сонет, один из прекраснейших гимнов, когда-либо написанных во славу истинной дружбы:
Если чистая любовь, если безграничное уважение, если общая судьба объединяют два любящих сердца; если злой рок, преследуя одного, ранит и другого; если один ум, одна воля управляет двумя сердцами; если одна душа в двух телесных оболочках достигла бессмертия и крылья ее достаточно сильны, чтобы вознести обоих к небу; если любовь золотой своей стрелой разом пронзила и жжет грудь обоим; если один любит другого и не один из двух не любит себя; если высшее счастье и радость для них – стремиться к одной цели; если вся любовь на свете не составила бы и сотой доли той любви, той веры, что их свяэует, – неужто же мгновение досады может разрушить и развязать такие узы?[233]
Это полное забвение себя, это умение принести себя в дар любимому существу, раствориться в нем – не всегда преобладало у Микеланджело. Иногда на смену безмятежной ясности приходила печаль, и тогда одержимая любовью душа билась и тосковала:
Я плачу, я горю, я сгораю, и пищей сердца моего служит его же печаль.
I' piango, i' ardo, i' mi consumo, e 'l core
Di questo si nutriscie…[234]
«Ты, который отнял у меня радость жизни», – обращается он в другом стихотворении к Кавальери.[235]
На эти безмерно пылкие стихи «желанный и нежный властелин»[236] Кавальери отвечал сердечно, но со спокойной сдержанностью.[237] Восторженность этой дружбы коробила его. Микеланджело оправдывался:
Мой властелин, не гневайся на любовь мою, – ведь я люблю лишь лучшее, что есть в тебе,[238] ибо моя душа не может не плениться твоей душой. То, что я отыскиваю, то, что я читаю в твоих божественных чертах, недоступно пониманию простого смертного. Чтобы понять это, должно сначала умереть.
Да, в его поклонении красоте не было ничего нечистого.[239] И все же эта пылкая, смятенная любовь[240] скрывала в себе какую-то загадку, была при всем своем целомудрии странной, одержимой.
К счастью, на смену этим болезненным привязанностям, вслед за отчаянными попытками заполнить свою безрадостную жизнь столь недостававшей ему любовью, пришла ничем не замутненная дружба с женщиной, сумевшей понять этого одинокого и затерянного в мире шестидесятилетнего младенца и хоть немного успокоить израненную душу, влить в нее веру, образумить, научить приятию жизни и смерти, пусть не свободному от грусти.