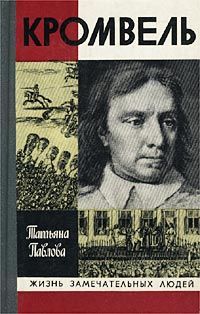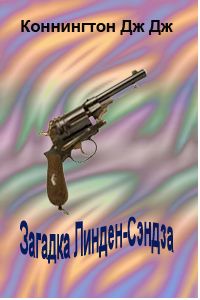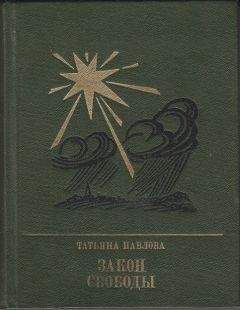Сергей Волконский - Человек на сцене
В смысле «завоевания», что дал нам «Дон Жуан»? Заставить Александринскую галерку рукоплескать тому, что в Мольеровском спектакле было Головинского, это результат, который мог радовать нас, в партере сидящих (хотя я лично не могу ни согласиться с луисэзистым оттенком гобеленового занавеса, ни поверить, чтобы толпа действительно оценила великолепный каприз этой грандиозной виньетки, в которой двигались живые люди). Но подчиняться этому с верхов идущему законодательству и сливаться с восторгами, узаконивающими мертвые слова в безжизненных переливах голоса, при одной мысли о таком соучастничестве уже хочется дунуть и плюнуть. И вот, перед тем, что было в спектакле режиссерского, — мы уже делимся: в зрительных впечатлениях я разделяю значительную часть восторгов, в слуховых я не иду с теми, кто рукоплещет. Я знаю, я слишком хорошо знаю Александринскую, да вообще русскую актерскую читку, чтобы ее недочеты включать в число режиссерских недохватов. Что может режиссер создать художественно-звукового с таким словесным материалом? Мыслимо ли для одного спектакля, хотя бы при двухмесячных репетициях вытравить ту ржавчину и тлю, что разъедают нашу сценическую речь? Да и режиссерское ли это дело — учить говорить? Только я не могу идти с теми, кто рукоплещет игре. Я не могу принять за Дон Жуана этого порхающего Нарцисса, в этом будуарном аббатике видеть Князя Мира сего, того, кто сам себе бог и закон. Я не могу рукоплескать Донне Эльвире, которая так мила фигурой, так естественно носит серые роброны своего траурного платья, но которая в речи не отличает «да» от «нет», иронического смысла от прямого. При этом непрерывном дребезжании обиженно-надтреснутой струны, на фоне какого-то эротического замирания, в котором первенствует все, что хотите, а слово становится подробностью, — где великолепный контраст, обеих сцен? Где хлещущая ирония оскорбленной женщины, где ангельское отречение всепрощающей супруги? Только по тексту мы знаем, что «я теперь не та», а в тоне мы слышим лишь спазмодические трепетания, выражающие неизвестно что, но во всяком случае — не то, о чем повествуется в словах. Я не могу рукоплескать тому отсутствию нарастания, с которым Шарлотта и Матюрина (ведь это должны быть две натравленные друг на друга болонки) начинают свой спор; не могу рукоплескать этому скрещиванию оружия, выражающемуся только тем, что они симметрично сходятся и расходятся. Я вообще не могу рукоплескать этому балету, который, благодаря тому, что выдохлась из него — или не была в него вдохнута — психология, превратился в ряд симметрических процессий. Не могу рукоплескать даже Командору, который был так хорош… пока не сделался актером, не сошел с пьедестала и не пошел ходить. И уже я совсем не с теми, кто рукоплещет словам, или тому, как они произносились. Это ли Мольер, тот Мольер, который, может быть, единственный из всех авторов, дает чисто умственное наслаждение? Вы знаете, есть такие люди, с которыми вы чувствуете себя умными? Мольер из таких: если вы им наслаждаетесь, то не в силу того, что вы художник, или поэт, или философ, нет — именно потому, что вы умны; бойтесь сказать, что Мольер вам скучен, — это как сказка о платье короля. И вот эта связующая нить между двух умных людей, — между автором и зрителем, — где она, где ее концы?.. В смысле художественной победы — что дали оба театра? Московский Художественный, всегда грешивший в сторону перевеса обстановки над актером, показал торжество актера над обстановкой и тем явил пример наивысшей победы, ибо для театра, как и для человека, наитруднейшая победа — над самим собой. Александринский театр, как театр, ничего не победил, а меньше всего себя самого: в пышное Луикаторзовское кресло, подкатанное ему Дирекцией, разукрашенное художником и режиссером, уселся не «мнимый», а истинно, серьезно и при том опасно больной.
О болезнях и лечениях не будем говорить в этот раз, — мы говорим о впечатлениях. Но пора ударить в набат: актерское искусство на образцовой сцене гибнет. Или эти Карлосы, Эльвиры, Алонцы — образцы? Скажут — это не главные, не по ним судить. Нет, именно по не главным и судить о возможностях театра: пусть они будут не крупны, но они должны быть правильны, если театр живой и стоит на фундаменте школы. А здесь все неправильно, — поклоны, выхода, интонации, а главное — слово. Дайте нам на русской сцене ясное, понятное, не залитое соусом, — простое русское слово. Вспомните о нем. Спасите его. Ведь страшно за него. Чем великолепнее зрелище для глаз, тем больнее ушам, тем досаднее для сердца и тем жутче от хлопков и воплей столь малым удовлетворяемой и так дешево покупаемой толпы. Избавьте нас от вечного усилия в театре; мы готовы слушать, но право же мы устали вслушиваться.
Петербург.
Ноябрь, 1910.
Красота и правда на сцене[16]
Имя Макса Рейнгардта в немецком театральном мире обладает особым магнетизмом: это лозунг, это сигнальная труба. Сперва актер, потом режиссер, ныне директор Deutsches Theater, соседнего с ним Kammerspiel'а и примыкающей к ним театральной школы, — он enfant terrible театральной семьи, жупел режиссеров, «жив чертушка» всех директоров; и если немецкий театр не заснул, если не раздается храп ни в золотых чертогах королевских Opernhaus'ов, ни в декадентских залах частных «протестующих» Schauspielhaus'ов, то потому что Рейнгардт не дает заснуть. Он не только разбудил режиссуру, растолкал актеров, — он переворошил самую сцену: он упразднил рампу, сделал настоящее небо, — без «паддуг» и «софитов», — выпустил сцену в зрительный зал, спустив ее ступенями в оркестр, он опрокинул принципы, изменил расстояния. Постановки чередуются с головокружительной быстротой. Не довольно двух театров, не довольно школы, теперь еще поставлен в цирке Шумана «Эдип»; участвующих — целое население, одних студентов, «фиванских граждан», 600 человек, пять тысяч зрителей, и каждый раз — ausverkauftes Haus. По окончании сезона «Эдип» поедет по городам Германии.
Понятно, что, попав в Берлин лишь на несколько дней, я не хотел разбрасываться и сосредоточил внимание на Deutsches Theater и на том, что к нему прикосновенно. Я видел «Le Mariage forcé», «Комедию Ошибок» «Гамлета», «Отелло», «Эдипа» и, кроме того, был в школе на уроках нескольких профессоров, в том числе на одной репетиции «На дне» под наблюдением самого Рейнгардта.
Наименее интересен из всего этого был первый вечер, наиболее интересен — «Отелло». Первый вечер мало сказать не интересен, — ужасен, о нем прямо вспоминать противно. Давно мы знаем и свыклись с тем, что немцы тяжелы, что добрый юмор их, столь милый на страницах «Fliegende Blätter», невыносим, когда проникает в чужие художественные формы; мы это знаем, и не в обиду им это говорится, — не виноваты же они, что не созданы для легкости и тонкости: «on ne chatouille pas un rynocéros», сказал не помню кто из французских писателей. Мы это знаем и, тем не менее, соблазняемся и идем смотреть, что могут из Мольера сделать «передовые» немцы. Идем и, несмотря на всю нашу подготовленность, оказываемся способны испытать новые, непредвиденные оскорбления художественному чувству.