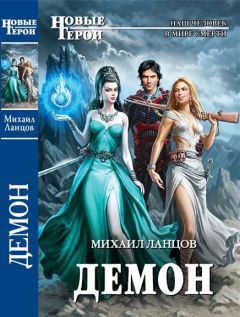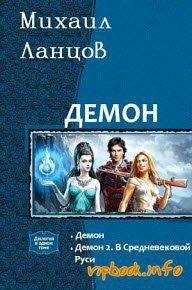Оля Ватова - Все самое важное
Под вечер мы возвращались в Ивановку. Темная ночь окутывала степь, когда казах заметил вдалеке тусклый огонек, подъехал и придержал коня. Мы стояли перед палаткой, где жила большая казахская семья. С потолка свисала тряпичная колыбелька, в которой лежал младенец. Люди сидели, склонившись над чашками с кипятком, и запивали им жареное зерно. Они гостеприимно встретили нас, пригласив на скромное угощение. Мне было хорошо и уютно среди них. А вокруг простирались просторы темной степи. Вероятно, старик, с которым мы ехали, уже успел сообщить им мою историю, потому что я ощутила на себе сочувственные взгляды. Я рассказывала им о Польше, о нашей жизни здесь, об ужасе, который нас окружает. Они молча слушали. Потом стали вспоминать, как хорошо жилось им в старые времена, до революции. Они были вольным народом. Жили в добротных палатках, выстеленных внутри коврами. Женщины носили разноцветные одежды, украшали себя серьгами и перстнями. Каждый день было мясо и хлеб, который они сами пекли. Стада овец и баранов паслись в степи. Сейчас казахи живут в нужде, носят лохмотья и пребывают в постоянном страхе. А бараны и овцы теперь казенные — принадлежат государству.
Одно время я и сама работала с казахами на стрижке овец и могла сделать собственные выводы о том, что происходит. Мне нужно было переписывать уже стриженных животных. И тогда я увидела, насколько силен инстинкт собственности, которому противостоял существующий строй, намереваясь создать советского человека. Каждому казаху разрешалось иметь не более трех баранов. И эти собственные бараны были всегда мастерски острижены. Не оставалось ни одного клочка шерсти, а на коже не было ни единой царапины. В то же время с казенными (государственными) баранами работали «по-стахановски»: главное — быстрее и больше. От казахов требовалось выполнять норму, а с несчастных животных стекала кровь. И с каждого барана свисали жалкие клочья. Казахи работали весело. Их навещали жены с детьми. Мужчины подбрасывали ребятишек вверх и радостно смеялись. В их глазах светилась отцовская любовь.
Я видела также и другое — как огромные стога заготовленного на зиму сена оставались в степи и загнивали. Никого это не волновало, хотя скот вымирал от голода. Собственность государства…
Казахи говорили, что так и живут в нужде и страхе, без надежды на лучшее завтра. Чувствовалось, что они ненавидят этот строй. И не только из-за того, что их лишили привычного уклада жизни, достатка, но и потому, что они утратили свою свободу, по которой так тосковали. Они были бессильны что-либо предпринять. Сразу после революции казахи, по сути, оказались в тюрьме, потому что в тюрьму для них превратился весь их мир. Даже степи, где, казалось, еще существует дух вольности.
На обратной дороге после жарминского суда мне постелили на телеге возле палатки. Степь дышала теплом. Над головой простиралось звездное небо, а на его фоне как будто прорисовывались горбы неподвижного верблюда. Я была невероятно уставшей. Беспокойство за Анджея, суд, разговоры в палатке — все это очень утомило меня, и я быстро уснула. Но вскоре почувствовала, что надо мной кто-то склонился, и ощутила горячее дыхание на своих щеках. Это был подросток-казах, который имел насчет меня явно недвусмысленные намерения. Я громко закричала и одновременно со всей силой оттолкнула его. Он убежал. Мои казахские хозяева, выбежав из палатки, спросили, в чем дело. А узнав, тут же забрали к себе. Так что остаток ночи я провела в их жилище. Возмущение казахов не знало границ. Они пришли к убеждению, что это был уже советский выкормыш. В связи с этим неприятным инцидентом я еще лучше поняла, как воспринимают казахи советских людей.
Когда я вернулась в Ивановку, энкавэдэшники хотели снова послать меня на сенокос. Но я так горячо и упорно упрашивала их оставить в меня в бараке, чтобы ухаживать за больным ребенком, что они уступили. Я обещала им выполнять самую тяжелую работу, которую мне дадут. Тогда я и начала изготовлять кирпичи, которые были по крайней мере раза в два больше наших. Весь процесс был на мне. Я сама заполняла глиной формы, раскладывала их на солнце, чтобы просушить. Кроме того, мне выдали огромный железный лом, которым я должна была разворотить руины старых лачуг. До сих пор не понимаю, как я с этим справлялась. Лом был таким тяжелым, что я его еле передвигала. Зато Анджей полеживал под своим балдахином, и я могла регулярно кормить его тем, что удавалось раздобыть. Каким неоценимым подспорьем оказался мой гардероб, вещи Александра и его родных (сумевших вернуться из Львова в Польшу). Все это добро я взяла, как рассказала раньше, благодаря совету сжалившегося над нами российского солдата. И оно действительно спасло нас от голодной смерти.
Я теперь хорошо знаю степь. Знаю ее во все времена года. Она всегда по-особому красива, но иногда и безжалостна. Я никогда не боялась случайно встреченного в степи казаха. Боялась же я советских граждан. У казахов, как выяснилось, была своя вера, которую они берегли, свои поверья, свои моральные устои. Это все жило в них, и каждое отступление от заповеданного свыше наполняло их страхом того, что духи отомстят. Казахи сохранили и народные методы лечения, которые иногда приводили к настоящим чудесам. Однажды, перед тем как перейти к казаху, у которого мы с сыном должны были провести зиму, я вместе с несколькими поляками сняла угол у других казахов. Там мы и столкнулись с настоящей знахаркой. На топчане лежал мужчина с высокой температурой. В его правой руке, пораненной на работе, начиналось заражение крови. Возле страдальца испуганно суетилась жена. Наша подруга по съемному углу Ханка Зеленская пришла посмотреть больного. Я встала рядом с ней и в ее глазах увидела приговор. Она сказала, что если сегодня же не ампутировать руку, то мужчина погибнет. По ее мнению, его нужно было госпитализировать, а для этого — срочно отвезти в Жарму. Но это целый день нелегкой дороги на запряженной волами подводе. Вскоре в избу вошла старая казашка, сопровождаемая женой больного. Съежившаяся, с искривленными пальцами на отекших руках. Седые волосы, заплетенные в косички, были небрежно скреплены на шее. Не обращая на нас ни малейшего внимания, под взглядом встревоженной жены она начала разминать какое-то принесенное с собой месиво. При этом старушка бормотала нечто странное. Возможно, магические слова или заклинания. В этом месиве я увидела плесень, какие-то части лягушки и что-то еще. Все это знахарка смешивала со своей слюной. Плевала она туда постоянно и все время произносила непонятные нам слова с какой-то певучей интонацией. Потом старушка приложила готовую массу к распухшим красно-синим железам под мышкой и перевязала тряпками. С недоверием и жалостью смотрели мы и на знахарку, и на больного, уже представляя себе его без руки, непригодного для работы. Однако он выздоровел, причем очень быстро. Красно-синие полосы начали исчезать, а через несколько дней и речи не шло об опасности. Он был спасен. (Сегодня уже известно, что народная медицина очень давно открыла пенициллин.)