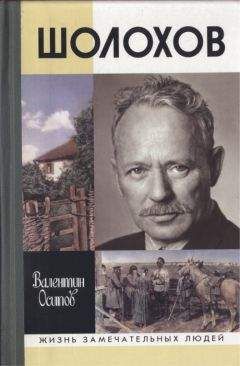Андрей Воронцов - Шолохов
Махно неторопливо поднялся со своего места и взошел на сцену.
— Хто это написал? — спросил он. Одной рукой он подбоченился, другую положил на лакированную крышку маузера.
В зальце повисло молчание. Михаил, набравши воздуху в грудь, шагнул из-за кулис.
— Сочинение Гоголя. Постановка моя.
Теперь они стояли на сцене вдвоем, друг против друга, одного примерно роста. При слове «Гоголь» какое-то смутное воспоминание мелькнуло на лице Махно.
— Гоголя?.. — переспросил он, мягко, как все хохлы, выговаривая букву «г». — Гоголя мы знаем. — Он посмотрел прямо в глаза Михаилу своими самостоятельно живущими на лице зрачками. — Ты коммунист? комсомолец?
— Нет, — облегченно сказал Мишка. Вот уж не было счастья, да несчастье помогло!
— Проверим! Все списки теперь у нас! Как фамилия?
— Шолохов Михаил.
— Петренко! Сходи проверь. А может, ты из кадетов, что подпускаешь здесь москальского шовинизму?
— Нет, я из мещан. Что такое шовинизм, я не знаю.
— Батька, не лютуй! — закричал кто-то из махновцев. — Добрая пьеса! Нехай гуляет хлопец.
Другие одобрительно загудели.
— Пьеса добрая, — спокойно согласился Махно. — Но конец у нее поганый. Нет никакого русского товарищества, а с товарищами-большевиками нам не по пути. Вот у нас, в Махновии — товарищество! И у вас на Тихом Дону — товарищество! А в России все рабы — снизу доверху.
— Гоголь продал свое перо русскому царизму! — снова гаркнул «пинжачный».
— Вот-вот, — обрадовался поддержке Махно. — Мы у себя в культпросвете ставим другие пьесы: Тараса Шевченка, Лэси Украинки. Там все правильно, без шовинизма, про вольных людей. Хочешь к нам?
Мишка осмелел.
— А если снова вернутся кадеты, то мне надо будет идти к ним и ставить «Жизнь за царя»? — спросил он. — Нет, мне и при своем театре хорошо.
— «За царя», хлопче, у нас расстрел. А кадетов мы побили. Теперь очередь коммунистов. Ты иди ко мне в штаб, подожди, пока я митинг кончу. Я с тобой трошки погутарю. Лепетченко! Проводи.
— А артистам можно идти?
— Можно. — Батька вытащил из кармана пачку керенок, сунул Михаилу. — Дай каждому по сто рублей. Пусть помнят батьку! Себе тоже возьми.
На ассигнациях был оттиснут штамп: «Гоп, кума, не журись, у Махно гроши завелись».
— Благодарствуйте, мне не надо, — сказал Мишка, — я паек получаю. Вот артисты — другое дело.
— Вольному воля.
Михаил отдал деньги за кулисы Тарасу — агроному Милешкину, шепнув:
— Никому не раздавай, снесешь их потом в ревком. Настю не бросайте, ведите в мой курень!
Махно тем временем, широко расставив ноги, не мигая, глядел в зал. Руки его были заведены за спину.
— Станичники! — наконец сказал он. — Кто сегодня первый враг трудового крестьянства? Коммунисты. Были кадеты — я их разбил. Это ведь мои хлопцы шли через Сиваш! — Он ударил себя кулаком в грудь. — Что же сделал Фрунзе? Вероломно напал на нас, когда стояли мы в Крыму на отдыхе! Но он не знает батьки Махно. Вчера я был в Крыму, а сегодня пришел поднимать Дон!
Михаил, как был в Остаповых лохмотьях, спустился со сцены и пошел в сопровождении Лепетченко к выходу. На улице валялись трупы чоновцев и ревкомовцев, с которых сняли даже исподники. С гиканьем носились в разные стороны конные махновцы, меча из-под копыт грязный снег. Штаб свой Махно разместил в ревкоме. Возле крыльца, подтекая кровью, лежал зарубленный продкомиссар. Вслед за Михаилом и Лепетченко шли две девушки в платках, которые сидели на представлении в первом ряду вместе с махновской «головкой». Они равнодушно, прихватив пальцами подолы юбок, обошли лужу комиссарской крови, словно это была обычная уличная лужа. У Михаила нехорошо засосало под ложечкой. «Господи, выйти бы отсюда живым! — подумал он. — У них жизнь человеческая — ничего не стоит…»
В сенях развалился на стуле махновец с винтовкой, от которого крепко пахло сопревшими портянками. Рядом сидел полный человек с серым лицом, лысина которого от уха и до уха была прикрыта длинной, цвета воронова крыла прядью. Завидев девушек, плешивый вскочил и бросился жать им руки.
— Галечка! Фенечка! — лепетал он. — Вы-то знаете, как я верен батьке, как люблю и уважаю вас… Не знаю, что со мной случилось, прямо какое-то затмение нашло… Галина Андреевна, если бы вы сказали батьке… Еще вчера мы с вами так мило ужинали, играли в «дурачка»…
— Не хвылюйтесь, товарищ Лашкевич, — ровным голосом сказала девушка, названная Галиной Андреевной. — Нестор Иванович справедлив.
— Да-да, конечно, — без особой надежды в голосе произнес Лашкевич, — но все же — Галечка, Фенечка… Нестор Иванович прислушивается к вам… Товарищ Лепетченко, ты-то мне веришь? — спросил Лашкевич у Мишкиного конвоира.
Лепетченко побагровел и с натугой, так что, казалось, шейные позвонки хрустнули, отвернул голову от серолицего.
— Постереги, — кивнул он хлопцу с винтовкой на Михаила.
— Слухаю, — равнодушно ответил тот.
Лепетченко ушел, звеня длиннющими, увенчанными звездами шпорами. Михаил присел на скамью рядом с Лашкевичем, который продолжал умоляющими собачьими глазами глядеть на Галю и Феню. Те, не обращая на него никакого внимания, пошли осматривать разгромленное махновцами, усыпанное бумагами помещение ревкома. Хлопец зевнул и, привалившись спиной к стене, затянул вполголоса «веселую» песню:
Да кто ж там лежит под могилой зеленой?
Махновец геройский, покрытый попоной…
Хлопнула входная дверь, и тяжелыми быстрыми шагами вошел тучный, краснолицый, с буйными кудрями человек, уколол Мишку, как шилом, маленькими пронзительными глазками.
— Это что за босяк? — наставив на Мишку палец-сосиску, спросил он у часового. Тот меланхолически пожал плечами:
— А пес його знае. Лепетченко привел.
— Ну, нехай таких оборванцев Лепетченко и допрашивает. А ты, товарищ Лашкевич, ходи сюда.
Лашкевич поплелся вслед за тучным в комнату, где, по странному совпадению, раньше сидел представитель Дончека. Галя и Феня вернулись в сени, присели рядом с Михаилом.
— Не журись, хлопчик, — сказала Галя, заметив подавленное состояние Михаила. — Тоби никто не тронет, колы будэшь слухать батьку. Це вин тому, — кивнула она в сторону Лашкевича, — залышилось життя на пивгодыны, вид силы — на годыну.
Говоря так, она, наверное, хотела успокоить Мишку, но этого, естественно, не получилось.
— А вы откуда знаете? — спросил он.
Галя криво улыбнулась.
— Та уж знаю.
Дела товарища Лашкевича и впрямь, были, по-видимому, не очень хороши. Через незатворенную дверь было слышно, как его допрашивал багроволицый.