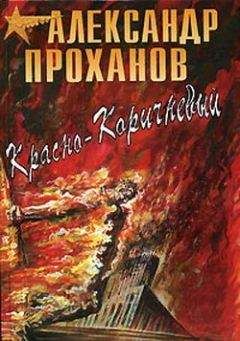Александр Авдеенко - Наказание без преступления
Меня постоянно тянет к Бесо, стараюсь быть там, где бывает и он. Чаще всего по вечерам его можно найти на пятом участке, в нашем не ахти каком просторном клубе ИТР, на втором этаже, в продымленной комнате шахматной секции. Он беспрестанно курит. Коробка «Казбека» лежит под рукой справа. Тут же, на шахматном столике, стакан с чаем. Бесо сидит, подперев рукой голову, и, кроме шахмат, ничего не видит.
С Бесо Ломинадзе мы говорили обо всем на свете. Он рассказывал о своих встречах с Лениным. Играли в шахматы, в карты. Пили доброе грузинское вино. Я читал ему главу из нового романа. Обсуждали только что вышедшие книги. Он хорошо знал поэзию. Напечатал в «Литературной газете» статьи о поэзии и о «Дне втором» Эренбурга.
Ничто ему не чуждо. Как-то вечером в Березках, в его доме, мы затеяли борьбу. Неравная схватка: он — гигант двухметрового роста, а я — на голову ниже, но моложе. Дорого обошлась наша возня хозяйке Нине Александровне: разбили немало посуды, свалили на пол зеркальный шкаф. Потери понес и я: лопнул командирский ремень добротной кожи, изорвана гимнастерка. Бесо сейчас же отдал мне свой ремень, тоже командирский.
Однажды зашла речь о Сталине. Вот что Бесо рассказал:
— Мои отношения со Сталиным были сложными. Со стороны, вероятно, казалось, что я пользуюсь абсолютным доверием Сталина. И были основания так думать. На пост первого секретаря Закавказского крайкома я был им рекомендован. Во всех делах отчитывался перед ним. Много раз встречался, и никогда он меня не прорабатывал ни при людях, ни один на один. Доброжелательно встречал и провожал. И все-таки каждый раз внутренний голос подсказывал мне, что в наших отношениях не все гладко. Иногда он как-то неприязненно оглядывал меня с ног до головы. И тогда мне казалось, что ему не по душе мой рост. Бесо Ломинадзе обыкновенный человек, а вымахал в два метра, а он, вождь, — низкорослый, тощенький. У Бесо густые волосы, чистое смуглое лицо, а у вождя — тонзура и оспины. Бесо Ломинадзе говорит по-русски лучше иного русского, а он, вождь русского и других народов, не может преодолеть сильного кавказского акцента. Я чувствовал: он доверяет Бесо, но от и до. Любит, но и опасается: как бы соратник не обернулся противником. И чутье не обмануло меня. В тридцатом на Пленуме ЦК, когда обсуждались внешнеполитические дела, я выступил с речью, которая не полностью совпадала с позицией Сталина. Это ему очень и очень не понравилось. Не по душе пришлась и речь другого члена ЦК, Сырцова, председателя Совнаркома РСФСР. Сырцов позволил себе покритиковать кое-какие наши мероприятия в области внутренней политики. Обоим досталось. Сталин окрестил наши выступления как право-левацкий блок Сырцова — Ломинадзе и навязал Пленуму соответствующую резолюцию. Сырцова сняли с поста председателя Совнаркома и вывели из ЦК, и я был выведен из ЦК перестал быть первым секретарем Закавказского крайкома. Перевели в Москву, назначили парторгом моторостроительного завода. Три года работал. Друзья сообщили по секрету, что Сталин сменил гнев на милость, готов простить мои «прегрешения», если я покаюсь. «Не в чем мне каяться!» — вспылил я. Снова и снова уговаривали покаяться, хотя бы для вида. И я, знаете, пошел на сделку с совестью, согласился. Принял меня Сталин глубокой ночью, почти на рассвете. Часа два заставил ждать в приемной. Когда я вошел, он сидел за большим зеленым столом, в его торце, и что-то писал. Не взглянул, не поднял головы. Я обозлился. Как можно так обращаться с человеком, унижать его?! Я стоял у порога и думал о том, что сейчас повернусь и уйду от него навсегда. Не успел. Он поднял голову, сделал неопределенный жест: проходи, мол, чего стоишь. Я подошел, поздоровался. Он не ответил на приветствие даже кивком головы. Усмехнулся, жестко, высокомерно произнес: «С чем пришел, умник? Говори!» Я опять испытал соблазн уйти. Сдержался. «Чего же ты молчишь? Неужели за три года не выучил, что положено говорить в подобных случаях?» И я заговорил. Стоял, прямо, в упор, смотрел на него и говорил. В самом кратком виде повторил все, что говорил три года назад на Пленуме. Он швырнул в меня черной курительной трубкой, выругался по-грузински… С того дня я ждал кары, но… состоялось решение о назначении парторгом ЦК на Магнитку. Серго выручил.
Непривычно мне было слышать такие слова о Сталине.
Благодаря тому, что великие называли «божественной беседой с самим собой», я могу в любое мгновение предстать перед Алексеем Максимовичем Горьким, рассказать ему о своем житье-бытье и попросить доброго совета:
— Трудно работать на паровозе и писать. Раздваиваюсь. Очень мало времени остается для работы над романом.
Ждал, что разгневается. Но он сочувственно молчит. А потом сочувствует и словом:
— А почему бы вам не расстаться временно с паровозом, не взять длительный отпуск? Работа над книгой требует свободного времени и сосредоточенности.
— Ломинадзе отговаривает меня от того, чтобы я бросал «Двадцатку».
— Хотите, я напишу ему письмо, уговорю дать вам отпуск?
— Хочу, Алексей Максимович. Напишите! — чуть не закричал я.
Горький опускает со лба очки, подвигает к себе стопку линованой бумаги и что-то медленно, старательно пишет.
Тем и хороша «божественная беседа с самим собой», что можно казнить себя и миловать, и просвещать, и возвышать.
В один прекрасный день меня обжигает прекрасная мысль: превратить заочный горьковский университет в очный. Вкладываю в большой конверт страниц двадцать бумаги, на которых запечатлены «божественные беседы», и отправляю в Москву, на Малую Никитскую. Пусть посмеется Алексей Максимович над моей писаниной. А может, и не посмеется? Может, внимательно, серьезно прочтет и захочет высказаться?
Ура! Не посмеялся. Прислал письмо на имя Ломинадзе. Вот оно:
«Дорогой т. Ломинадзе —
Убедительно прошу Вас дать Авдеенко отпуск до августа. Отпуск необходим для того, чтоб Авдеенко мог основательно проработать и кончить начатый им роман. Я совершенно уверен в серьезнейшей революционно-культурной значительности его работы, и нужно, чтоб он, Авдеенко, получил свободное время для нее.
Привет. М. Горький
20 IV 34 г.»
Пишу с самого раннего утра. Пожую что-нибудь, выпью чашку чая — и снова пишу. Сбегаю вниз, на тринадцатый участок, в горкомовскую столовую, пообедаю — и опять приковываю себя к столу. Весь день-деньской кропаю, до синих сумерек. Ложусь рано, встаю с рассветом и вкалываю.
Перечитал свою писанину — и приуныл. Пресно, скучно.
Прошло несколько дней. Еще раз прочитал — вроде бы неплохо. Выходит, надо не рубить с плеча то, что вчера сделал. Не спешить отказываться от самого себя. Работать! Работать! Работать!