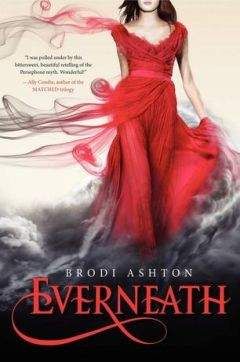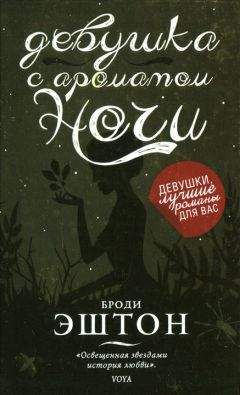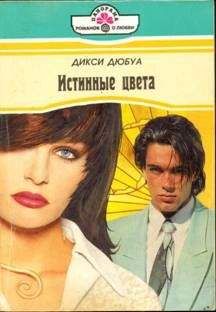Иван Стаднюк - Исповедь сталиниста
К нам подошел один "болельщик" - высокий, с рыжей шевелюрой; на небритых щеках пробивалась рыжая щетина. Выделялся он еще длинным носом и почти бесцветными веками (это был московский поэт Игорь Чекин). Понаблюдав за нашей игрой, он со смешком спросил:
- У вас турнир или дуракаваляние?
- У товарища особая манера игры, нестандартная, - серьезно ответил Кулешов.
Сделав еще несколько ходов, он кинул на меня острый, озабоченный взгляд и надолго задумался, не отрывая глаз от шахматной доски. Я тоже напряженно пялил глаза на фигуры, не понимая, что озадачило моего партнера. Чекину надоела эта затянувшаяся пауза, и он куда-то исчез, а Кулешов, сокрушенно покачав головой, вдруг сказал мне:
- Хитер, комиссар! Видна выучка Вересова. Ладно, давай сойдемся на ничьей и начнем новую партию.
Я обалдел до того, что казалось, лес надо мной качнулся: никак не мог понять, почему Кулешов прекращает игру. Потом меня начал душить дурной смех, но я многозначительно молчал, не выдавая своего непонимания ситуации на шахматной доске. Кулешов воспринял мое молчание как отказ от ничьей и наконец сказал:
- Ладно, сдаюсь, - и начал заново расставлять фигуры.
Вот тут я и допустил непростительную ошибку, согласившись продолжать игру. Кулешов был шахматистом высшего класса, и то ли нарочно проиграл мне эту партию, то ли случайно сделал какой-то опрометчивый ход, который при понимании законов игры лишал его шансов на выигрыш. Но с моей стороны ничто не грозило моему партнеру. Это он понял уже при второй партии, сделав мне мат в несколько ходов. Потом мы играли "вслепую": Кулешов, улегшись на спину, не смотрел на шахматную доску, диктовал мне свои ходы, я ему называл ответные и... неизменно проигрывал.
- Как же с тобой мог играть сам Вересов?
- Он тренировался на мне...
С Аркадием Кулешовым на фронте я больше не встречался. Судьба вновь свела и крепко сдружила нас только после войны, когда в пятидесятых шестидесятых годах он был главным редактором киностудии "Беларусьфильм", где тогда экранизировалась моя повесть "Человек не сдается", и Аркадий курировал фильм как его редактор. К этому времени класс моей игры в шахматы заметно поднялся, у нас было с ним много поединков, но, увы, ни одной победы в них я не одержал.
Из глубины леса к нам подошли полковой комиссар Фарберов и старший батальонный комиссар Поповкин - о том, что это были именно они, я догадался сразу. Оба с раскрасневшимися лицами, в новеньком, не обмятом обмундировании, затянутые в лоснящиеся, будто навощенные, ремни с портупеями. Фарберов - небольшого роста, подтянутый; жестикулируя обеими руками, он, кажется, давал Поповкину какие-то напутствия. Поповкин грузноватый, с чуть заметным брюшком под гимнастеркой, немножко курносый. Он широко улыбался толстоватыми губами, его темные маслянистые глаза тоже светились улыбкой. Я почувствовал в нем доброго и веселого человека.
Мы с Кулешовым уже стояли "в струнку", а я еще и "ел" начальство глазами. Когда оно приблизилось, я шагнул навстречу и лихо продемонстрировал свои знания уставных правил. Вначале обратился к Фарберову, вскинув правую руку к козырьку фуражки:
- Товарищ полковой комиссар, разрешите обратиться к старшему батальонному комиссару Поповкину!
- Обращайтесь...
- Товарищ старший батальонный комиссар!.. Гвардии батальонный комиссар Стаднюк прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы на должности старшего литсотрудника группы информации газеты "Мужество"!
Улыбка с лица Поповкина не сходила. Кажется, он больше смотрел на мой новенький орден и нашивки о трех ранениях, чем мне в лицо. Пожав руку, сказал:
- Ну, что ж, нас уже двое в редакции. Пойдем знакомиться и решать, как начнем выпускать газету. Приказано не медлить.
Мы ушли с Поповкиным за лесную дорогу, где стояло несколько машин с полиграфическим оборудованием для газеты "Мужество". До сих пор не знаю, откуда они взялись и кто потом успел так быстро укомплектовать типографию специалистами. Улеглись на траве, закурили.
- Какое образование? - это был первый обращенный ко мне вопрос.
- Десятилетка, чуток института журналистики, полковая артиллерийская школа и военно-политическое училище, - ответил я, как на экзамене.
- На фронте давно?
Я начал рассказывать, стараясь не выглядеть хвастуном, но и давая понять, что побывал в таких переплетаx, из которых выбрался чудом.
- За что получил орден?
- Не знаю, наградного листа не читал, - я говорил правду . - Думаю" за то, что уцелел в приграничных боях... А вот еще награда, - и достал из полевой сумки свою фотографию под боевым знаменем 7-й гвардейской стрелковой дивизии. - А вот вырезка очерка из газеты "Красный гвардеец" первого гвардейского стрелкового корпуса (от 11 мая 1942 года). В нем корреспондент газеты капитан Елизаров (погиб на Северо-Западном фронте в том же 1942 году), не без явных преувеличений, повествовал о "моих подвигах" на переднем крае при сборе материалов для дивизионной газеты.
Поповкин внимательно читал очерк, и я чувствовал, как возвеличивался в его представлении мой "молодецкий облик". Внутренне ликуя, не догадывался, что скоро грядет позорный провал моего авторитета...
11
Через несколько дней мы выпускали первый номер армейской газеты "Мужество", Я дежурил по номеру - отвечал за его соответствие подписанному редактором в печать. На первой полосе публиковался Указ о присвоении звания Героя Советского Союза кому-то из разведчиков нашего фронта. Указ как указ. Подписанный М, И. Калининым и секретарем Президиума Чадаевым. На этой фамилии я и споткнулся. Почему, собственно, "Чадаев"? - мелькнуло у меня сомнение. Ведь есть фамилия Чаадаев, с двумя "а". Ее носил друг Пушкина Петр Яковлевич, знаменитый публицист XIX века, участник войны 1812 года, декабрист... И я, довольный своими познаниями, решительно исправил фамилию на "Ча-адаев", проследив, чтобы метранпаж сделал поправку.
К утру газета была напечатана, отправлена на полевую почту, а потом над моей головой разразилась гроза: Поповкин то рыдал, то хохотал до слез. Ждал вызова к начальству и ругал меня последними словами.
К счастью, на ошибку никто не обратил внимания, но я потерял доверие редактора и длительное время был у него в немилости.
Редакция наша пополнялась новыми работниками. В ней, правда, в разное время и разную продолжительность времени, работали будущие писатели Сергей Сергеевич Смирнов, Семен Глуховский, Анвер Бикчентаев, Вениамин Горячих, Юрий Смирнов, украинский поэт Давид Каневский и белорусский критик Алесь Кучар. Все они имели высшее литературное образование, опыт журналистской работы, и я чувствовал себя среди них жалким провинциалом, неумехой. Но все же старался держаться уверенно, понимая, что есть у меня и некоторые преимущества - моложе всех и выше в воинском звании, наличие военного образования и боевого опыта, о чем свидетельствовали три нашивки о ранениях. И орденоносцем был я пока единственным в редакции, да еще гвардейцем. Объективности ради скажу, что "боевые" материалы давались мне легче, нежели профессиональным литераторам. Что же касается их языка, стиля, формы, эмоциональных нагрузок, то мне надо было многому учиться у своих коллег, что я и делал неутомимо. Помню, с какой тщательностью простивший потом меня Евгений Поповкин редактировал мой рассказ "Сын", печатавшийся с продолжением в нескольких номерах "Мужества". После войны этот рассказ лег в основу повести "Это не забудется". Давид Каневский учил соблюдать чувство меры в использовании украинизмов в русской прозе, объяснял с присущей ему деликатностью элементарные, как мне сейчас ясно, законы создания художественного образа, характера, учил подбору деталей, придающих объемность повествованию. У Анвера Бикчентаева, мастера ярких новеллистических зарисовок, учился сюжетным построениям. А Семен Глуховский был моим постоянным советчиком по всем проблемам, связанным с профессией журналиста.