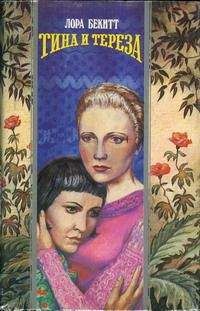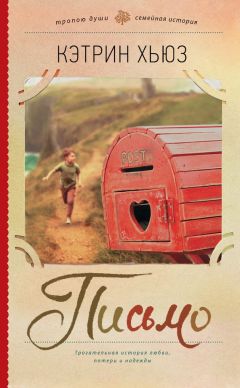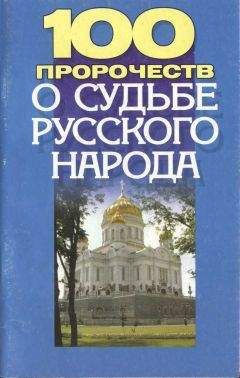Ольга Кучкина - Смертельная любовь
Как повторяется история. Человек берет на себя груз вины за состояние дел в стране, а ему говорят, какая замечательная у нас страна, и не сметь чернить ее прошлого и настоящего. Ходим кругами.
Любой из нас сам взваливает – или не взваливает – на себя определенные обязанности. От этого ему полно или пусто. Тяжело или легко. Легко или тяжело его совести.
* * *После Сахалина Чехов беседует с чиновниками, общественными деятелями, посылает на остров книги и учебники, пишет собственную книгу.
Реальные дела всегда будут занимать его. Припомним порядковый номер пациента – 686. Чехов будет врачевать и строить сельские школы, участвовать в помощи голодающим и работать на участке во время холеры.
И всегда – на иждивении семья, семь-девять человек.
Ему едва исполнилось семнадцать, когда он наставлял двоюродного брата: «Будь так добр, продолжай утешать мою мать… У моей матери характер такого сорта, что на нее сильно и благотворно действует всякая нравственная поддержка со стороны другого».
В другом письме ему же объяснял, что отец и мать – единственные на земном шаре люди, для которых ничего не пожалеет, и если ему суждено стоять высоко – их заслуга. Это при том, что отец крайне деспотичен. «Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за недосоленного супа или ругал мать дурой»,– пишет он старшему брату.
Яблочко от яблони… Мог пойти по отцовским стопам. Не пошел. Мог отказаться от такого родителя. Не отказался. Мог силой менять, ломать родных в угоду своим воззрениям. Переменился сам. Сделал из себя другого человека, «Лучше быть жертвой, чем палачом».
И чудо – отец переменился. Он воспитал отца! Любовью.
С младых ногтей взял на себя моральную и материальную заботу о старших и младших. «У вас жена, которая простит Вам безденежье, а у меня порядок, который рухнет, если я не заработаю определенное количество рублей в месяц, рухнет и повалится мне на плечи тяжелым камнем…»
* * *Сахалин (включая трудности самой поездки) произвел в Чехове большее преображение и большее опустошение, нежели можно было предположить.
«Холодно, Лика, скверно» – это после Сахалина, где, по его словам, он испытал «такое круглое одиночество». После Сахалина вставал с постели и ложился в постель с таким чувством, будто у него иссяк интерес к жизни.
«Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом».
Верно и то, и то.
Лике: «У меня все мои внутренности полны и мокрых и сухих хрипов».
Кровохарканья дали себя знать в 24 года. В 30, после Сахалина, туберкулезный процесс оказался в полном разгаре.
Кто же эгоистичен?
К этому следует прибавить странную и, увы, типичную зависть коллег: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть».
Из этой скромной завязи произрастет пышный букет, именуемый в истории русской культуры драматическим провалом «Чайки» на санкт-петербургской сцене.
* * *18 октября 1896 года Чехов отправляет три короткие записки.
«Я уехал в Мелихово… Вчерашнего вечера я никогда не забуду…»
«Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора».
«Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику».
Последнее – сестре Маше.
Держится. Сдерживается. Но требуется Лика. Как лекарство.
19 октября телеграмма, которая, кажется, никогда не цитируется – «оберу поезда 13»: «Заднем не курящем вагоне 3 класса забыт на полке узел в одеяле… Вышлите Лопасню. Чехов».
Почти ничего не говорящая подробность. Какая красноречивая подробность. Забыл вещи. Значит, был в таком состоянии, что даже вещи забыл.
Через три недели он пошлет поражающее искренностью письмо известному адвокату Кони: «…я уезжал из Петербурга, полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я утерял всякую чуткость, и что, значит, моя машинка испортилась вконец». Искренность – в ответ на искренность. Кони писал: «“Чайка” – произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это – сама жизнь на сцене, с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями, жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии…»
Но то была частная переписка. В газетах – иной тон. Автор возведен в чин «большого таланта» «заведомо фальшиво». Пьеса «производит впечатление какой-то творческой беспомощности, литературного бессилия, лягушки, раздутой в вола». Если «бывают дикие чайки, то это просто дикая пьеса».
Триумф на сцене Художественного театра опровергнет этот дикий бред.
Но когда это еще будет!
* * *Насколько был ранен Чехов, свидетельствует его намерение: «Если весной война, то я пойду».
Причиной – многое. Провал «Чайки», в том числе.
Спустя время он констатирует с печалью: «17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность… Я теперь покоен, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».
Он и прежде не мог понять, а тем более принять, манеры иных критиков – по отношению к другим, не к себе: «Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба… Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах?»
Раны художнику наносит не только, или не столько, злоба критиков, зависть коллег, непонимание женщин. Внутренний мир художника вмещает в себя весь мир. И когда в этом мире неладно – а в нем всегда неладно, – тут самая большая боль. Чем обыденнее, тем больнее.
Записные книжки, как и письма, полны боли.
«Когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь – ужасна. Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них – ад…»
«После осмотра здания комиссия, бравшая взятки, завтракала с аппетитом, и точно, это был поминальный обед по чести».
«Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, кто не способен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником».