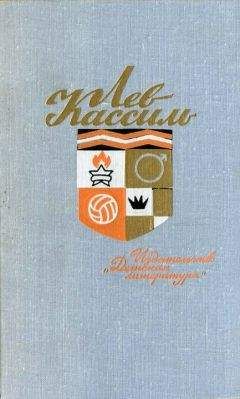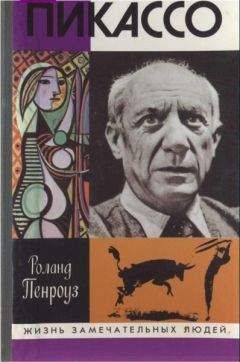Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна
Марго, несмотря на свой возраст, находилась в зависимости от старших сестер, распоряжавшихся ее состоянием и ею самой. Сестры пришли в ужас от предполагаемого замужества; Марго, обычно покорная, проявила неожиданную настойчивость, и они с большой неохотой уступили, поставив непременным условием подождать с браком два года, о чем и сказали Винсенту. Винсент не принял условия. «Я ответил решительным отказом и объявил, что если речь идет о женитьбе, то она состоится либо очень скоро, либо никогда» (п. 375). После этого сестры обрушились на Марго с таким градом упреков и поношений, что она приняла яд.
Ее удалось спасти, она была помещена в больницу в Утрехте, где Винсент ее навещал и советовался с доктором. По словам врача, выходило, что состояние здоровья Марго не позволяет в ближайшее время думать о браке, но и резкий разрыв для нее опасен. Винсент писал, что Марго находится под угрозой либо тяжелого нервного заболевания, либо — чего он как огня боялся — «религиозной мании». «Жаль, что я не встретился с нею раньше, скажем, лет десять назад. Сейчас она производит на меня то же впечатление, что скрипка Кремонского мастера, испорченная неумелым реставратором… Когда-то это был редкий инструмент большой ценности: даже сейчас, несмотря ни на что, она стоит многого» (п. 377).
Марго вернулась в Нюэнен только через несколько месяцев. «Мы остались добрыми друзьями» (п. 385), — писал Винсент. Он сурово обвинял сестер Марго за деспотизм и жестокость, но за собой никакой вины не числил — не то что в случае с Христиной, — даже говорил, что «разбить покой женщины, как это называют люди, окаменевшие под влиянием богословия, иногда означает положить конец ее душевному застою и меланхолии, худшим, чем сама смерть» (п. 377).
Своим личным удачам и неудачам он уже не придавал большого значения и не жаждал семейной жизни: искусство успело завладеть им, как самая властная жена. Отсюда не следует, что он легко отнесся к истории с Марго и быстро о ней забыл. Вообще не любивший вспоминать о своих прошлых романах, он никогда больше не поминал (по крайней мере в письмах) ни Урсулу Луайе, ни Кее Фос, ни Христину — а о Марго справлялся в письмах к сестре из Парижа, и даже в убежище Сен-Реми — через пять лет, — посылая матери и сестре свои произведения, выражал желание, чтобы некоторые были подарены Марго Бегеман.
Ее покушение на самоубийство омрачило многие месяцы его жизни. В начале нового, 1885, года он писал: «Я еще никогда не начинал год с более мрачными предчувствиями и в более мрачном настроении» (п. 392. Потом он напомнил эти слова брату, когда в марте неожиданно умер их отец).
Отношения с семьей оставались безнадежно далекими, хотя и мирными. Он раздумывал о причинах своей несовместимости с самыми близкими по крови людьми, его преследовал образ революционной баррикады, отделяющей его от них, да и вообще от людей 80-х годов, не исключая и Тео. Живи они не в 1884, а в 1848 году, писал он, «ты стоял бы на стороне Гизо, а я на стороне Мишле. И будь мы оба достаточно последовательны, мы могли бы не без грусти встретиться друг с другом как враги на такой вот, например, баррикаде: ты, солдат правительства, — по ту сторону ее; я, революционер, мятежник, — по эту… Баррикад сейчас, правда, нет, но убеждений, которые нельзя примирить, — по-прежнему достаточно» (п. 379).
«Сегодняшнее поколение не хочет меня: ну что ж, мне наплевать на него. Я люблю поколение 48 года и как людей и как художников больше, чем поколение 84-го, но в 48 году мне по душе не Гизо, а революционеры — Мишле и крестьянские художники Барбизона» (п. 380). «Еще два слова о том, что я называю баррикадой, а ты — канавкой. Существует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей вине, и есть новое, которое уже родилось, растет и будет развиваться» (п. 381).
Вот какие мысли посещали тогда Ван Гога — одинокого часового на забытом посту. Он всегда помнил о революционном движении шахтеров в Боринаже.
26 марта 1885 года скоропостижно умер пастор Ван Гог — упал на крыльце своего дома и больше не поднялся. Его похоронили на кладбище возле старинной церкви, которую Винсент так часто писал. На похороны приезжал Тео; мы не знаем, о чем разговаривали тогда братья, но кончина отца их сблизила. Больше в письмах Винсента нет ни упреков, ни угроз «разрыва». В первом написанном после смерти отца письме слышится мужественная стоическая интонация: «Мы пережили дни, о которых всегда будем помнить, и однако общее впечатление от них не ужасно, а только значительно. Жизнь не долга ни для кого: одно важно — что-то сделать» (п. 397).
А в следующем письме: «Я говорю: будем много писать, творить, останемся самими собой с нашими недостатками и достоинствами; я говорю „мы“, потому что твои деньги, которые, я знаю, так трудно достаются, дают тебе право считать мои произведения, когда они станут наконец хорошими, наполовину твоим собственным созданием» (п. 399). С тех пор это «мы» неизменно повторяется, когда Винсент говорит о своей работе: таким образом, был заключен еще один негласный «договор» с братом.
Винсент отказался от своей доли наследства, заявив, что не имеет на него права, так как был не в ладах с отцом. Переселился на жительство в мастерскую, окончательно обособившись от семьи, и все время проводил среди крестьян, работая, деля с ними даже досуг. Он еще раньше, зимой, поставил перед собой задачу — написать не меньше пятидесяти голов крестьян. В марте, после смерти отца, начал работать над композицией «Едоки картофеля», делая для нее множество этюдов и предварительных эскизов. Позировали для картины члены семьи Де Гроот — друзья Винсента; в их хижине она и была написана.
А. Перрюшо говорит, что «брата Тео, приехавшего на похороны, Винсент настойчиво убеждал взять с собой в Париж» [18]. Неизвестно, какими источниками пользовался в данном случае Перрюшо, но из корреспонденции этого времени явствует как раз обратное: Тео высказывал мнение, что Винсенту следовало бы переменить место жительства, а Винсент до поры до времени не хотел об этом и думать. «…Отнюдь не исключено, что я останусь здесь до конца жизни. В сущности, у меня одно желание — жить в деревенской глуши и писать деревенскую жизнь» (п. 398). Более того — он мечтал о том, чтобы совсем уйти от общества «образованных людей» и жить по-крестьянски. «Хорошо зимой утопать в глубоком снегу, осенью — в желтых листьях, летом — в спелой ржи, весной — в траве; хорошо всегда быть с косцами и крестьянскими девушками — летом под необъятным небом, зимой у закопченного очага; хорошо чувствовать, что так было и будет всегда» (п. 413).
О Париже он помышлял меньше всего, никак не предполагая, что окажется там через год. Если у него и появлялись иногда мысли о переезде (временном) в большой город — то только в Лондон. Но пока он работал над «Едоками картофеля», он не думал и о Лондоне: чувствовал себя всецело «крестьянским художником», верил, что «так будет всегда». Ни над одной из своих картин — ни прежде, ни в будущем — Ван Гог не работал так долго, страстно, истово, как над этой.
Он мыслил свое полотно как программное произведение, как вызов салонной публике, любящей надушенное и приглаженное искусство, вызов тем, кого художник ощущал «по ту сторону баррикады». Пусть картина пахнет дымом, картофельным паром, говорил он, это хорошо, это оздоровляющий запах. «Я хотел дать представление о совсем другом образе жизни, чем тот, который ведем мы, цивилизованные люди» (п. 404).
В это же самое время, когда никому неведомый голландский живописец писал свою картину — вызов и обвинение «цивилизованным людям», в далекой России всемирно известный писатель писал трактат «Что такое искусство» — с тем же вызовом, тем же обвинением. Лев Толстой писал там, что между классами современного общества — зияющая пропасть; жизнь господская с науками, искусствами, «влюбленьями» как бы вовсе не существует для крестьян, а господам жизнь крестьян с ее трудами ради хлеба насущного представляется удручающе однообразной и темной.