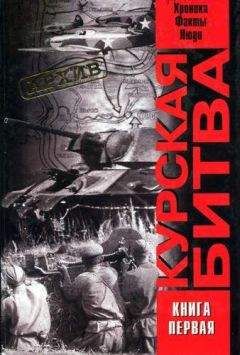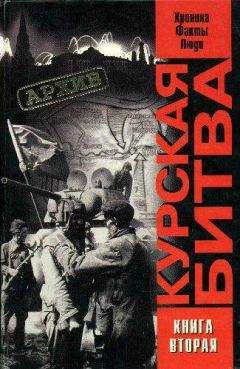Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
В дневниках Ирины есть признание: «Больше всего я боюсь возвращаться в Россию». Да, Ирина этого боялась. Но следует сказать, что в этом отношении у нее были свои веские причины и оправдания. Самый отъезд из России, как мы видели, был для Ирины катастрофой. Ее детские, патриотические стихи против виновников, по ее мнению (и по мнению ее среды), несчастий России полны искренней скорби за родину. Эта боль не была изжита. Дело в том, что, живя в эмигрантской среде определенного политического направления, она не могла выйти из круга этих понятий. У нее были основания для этого. Годы военного коммунизма оставили в ней тяжелые воспоминания. До нас, за рубежом, доходили мрачные рассказы о тяжелой жизни на родине. Еще раз можно напомнить, что возвращение в Россию в тех условиях (еще до войны с Германией) было почти нереальной возможностью, а судьба Марины Цветаевой показала, что оно даже не оправдывается действительностью. Кто будет возражать, что едва ли творчество Ирины могло бы развиваться на родине так же свободно, как за рубежом.
Я уж не так молода, чтобы ехать в Россию.
«Новую жизнь» все равно уже мне не начать…
Но это признание было для русской поэтессы настоящей, подлинной трагедией. Наша семья была насквозь русская, так и не сумевшая десятки лет жизни вне родины найти себе духовного пристанища за границей. Ирина не дожила до конца войны, когда вопрос о «возвращении» так просто и легко стал перед нами. И опять, сознавая свой тупик в вопросе о родине, Ирина возвращается к своим роковым стихам:
Зачем меня девочкой глупой,
От страшной, родимой земли,
От голода, тюрем и трупов —
В двадцатом году увезли?
«ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ»
А жить осталось так немного,
И то уж, — из последних сил…
Последние 6–7 лет жизни Ирины были сплошной борьбой с разными болезнями. Какими только болезнями ни болела она за это время!
Записи в дневнике становились все реже, пока совсем не прекратились. Эти редкие заметки полны невероятной тоской и горькими жалобами… «Я больше не могу…» — это роковое признание повторяется все чаще и чаще и в дневнике, и в стихах.
Господи, как я устала,
Как я хочу отдохнуть.
«Всеми способами отдохнуть!». «Я устала. Хожу, спотыкаясь» и т. д.
Есть такое слово: «не могу».
Глупое такое слово.
Словно стон, оно слетает с губ
В тишине отчаянья глухого.
«Не могу»… и слезы на глазах,
Жалкие, беспомощные слезы.
И отчаянье, и стыд, и страх,
И кому-то скрытая угроза.
Руки жалобно спадают с плеч
И висят безжизненно, как плети…
— Значит, больше нечего беречь,
Кроме призрачной мечты о смерти.
Но в каком-то дьявольском кругу
Сердце бьется и тоскует снова…
Глупенькое слово: «не могу»,
Грустное такое слово.
8. VII.1937
Тело Ирины разрушалось, но талант ее отнюдь не ослабевал и не тускнел, наоборот, стал крепче и устойчивее. Об этом сказала вторая книга ее стихов. «Окна на север» — ее литературный «последыш». Эта книга вышла в Париже в 1939 г. в цикле «Русские поэты». В том же издании появилась антология русской зарубежной поэзии — «Якорь», где были помещены и стихи Ирины, что уже было настоящим официальным признанием ее как поэта.
«Окна на север» в отношении стихов сильнее ее первой книги. К сожалению, она вышла в конце 1939 г., уже во время войны, когда все русские издания и вообще русская эмигрантская пресса были разгромлены немецкими оккупантами и, таким образом, ни в одном издании не могла появиться рецензия на эту книжку, которая на читателей произвела очень большое впечатление. Действительно, «Окна на север» — жуткая книга. Всякий, кто ее прочтет, скажет, что она — последняя, предсмертная. Вся она насыщена близостью конца и является как бы «прощаньем с жизнью молодой».
Я Богу не молюсь и в церковь не хожу.
России не люблю, не плачу об утрате.
Нет у меня друзей… И горько я слежу,
Как умирает день на медленном закате.
Как умирает жизнь, — спокойно, не спеша
Как каждый день ведет навстречу смерти белой.
Умрут мои стихи. Умрет моя душа.
Зароют глубоко истерзанное тело.
Конец? — так что ж? Ведь мне себя не жаль,
Последней тайный стон последней тайной грусти:
О чем моя тоска? О ком моя печаль?
Зачем моя любовь и боль ночных предчувствий?
От неподвижных дней, от равнодушных встреч —
Одна лишь пустота, усталость и досада.
Мне нечего жалеть, и нечего беречь,
И некуда идти, и ничего не надо.
9. XII.1938
Иногда все же ожидание конца принимает у нее мягкие, примирительные формы:
Проходят дни — во сне, как наяву.
И с каждым днем, устало стынет сердце.
Ласкает солнце влажную траву.
А я все равнодушнее живу
И все спокойней говорю о смерти.
Шумит в лесу весенняя листва
Над золотом неяркого заката.
Слетают с губ усталые слова.
Мне холодно. И руки без перчаток
По-зимнему я прячу в рукава.
Сгорают медленные дни.
И вдруг
Приходит неожиданная старость…
— За дни любви, за немощный недуг,
За очертания любимых рук,
За все слова… Еще за слово: «друг».
За все, что у меня еще осталось…
Я всё люблю: лесную тишину,
И городов широкое движенье.
И, пережив последнюю весну,
Я в жизни ничего не прокляну,
Но и отдам ее без сожаленья.
Несмотря на все свои жалобы и неудачи, Ирина вообще очень любила жизнь и «до боли огненной» — землю. И в одном из своих последних стихотворений, которое трудно читать без волнения, болезненно звучит щемящая мольба о жизни.
Еще лет пять я вырву у судьбы.
С безумием, с отчаянием и болью.
Сильнее зова ангельской трубы —
Неумирающее своеволье.
Еще лет пять, усталых, грустных лет,
Все, что прошу, что требую у Бога,
Чтоб видеть солнечный, веселый свет,
Еще смотреть, еще дышать немного.
Чтобы успеть кому-то досказать
О жизни торопливыми словами…
Чтоб все, что накопила, растерять
Под не прощающими небесами.
Еще лет пять хотя бы…
А потом —
Тяжелый воздух городской больницы,
Где будет сердце стынуть с каждым днем,
Пока совсем не перестанет биться.
17. XII.1939