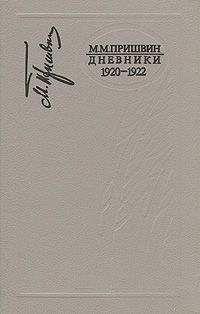Михаил Пришвин - Дневники 1930-1931
Другими словами, все романтическое, поэтическое, эротическое связано с Варей, а реальное, бытовое, природное — с Ефросиньей Павловной.
В течение многих лет Пришвин не может никуда деться от связанных с Варей эротических снов, и так же никуда он не может деться от своей семейной жизни. Может быть, потому он так привязан к Ефросинье Павловне, что она связывает его чувственность, реализует его мужское естество, причем обыкновенно, безыдейно, «как у всех», как в народе, как в природе, а при его рефлексирующем эротическом комплексе (Невеста) это очень существенно и важно. Эрос Пришвина связан с творчеством, но это не сублимация — он лично не задет, не заинтересован, он не переводит в поэзию свои комплексы, но освобождается от них в жизни (за что он Ефросинье Павловне всегда благодарен). Потому-то он и чувствует, что «обманывает» Ефросинью Павловну. Он понимает, что благодаря ей он свободен в творчестве, где таится недоступная Невеста, Прекрасная дама, Муза — Варя Измалкова (надо сказать, что эта двойственность указывает на столкновение символистской и акмеистской практики в творческой и личной судьбе писателя, обнаруживая в его любовном дискурсе культурную подоплеку). «Недоступность» с необходимостью присутствует, но разрешается без символистских «сложностей», обычным путем — естественным, природным, здоровым, в семье; и это не циничное пользование семьей, а искренняя попытка выстроить семейные отношения. Роль Ефросиньи Павловны в его жизни огромна — она соответствует одной стороне его натуры, но другая — поэтическая, мятущаяся, рефлексирующая, связанная с эросом жизни, реализуется в творчестве, но не находит успокоения в жизни («живая любовь непременно эротическая»).
В дневнике 1930–1931 годов (как и в более ранние годы и в последующие) появляются записи о семье, свидетельствующие об одиночестве Пришвина и попытках разорвать порочный круг семейной жизни («надо почаще вон из дома, и к этому бездомью (возможно ли?) приучать себя»).
Истощаются отношения с Ефросиньей Павловной — пол без эроса истощается, не имеет творческой силы, и, в конце концов, становится невозможным. Между тем, в культуре как раз в это время господствует встречное движение — «любовь без черемухи», «без флирта, без кокетства», пол без эроса («сдержанный пол… создает эротическое свечение мира с цветами (черемуха): дети… сказочки, праздники… стихи… Какой же мир вне влияния эроса… Что же остается? Вот тут и является "герой нашего времени". Боюсь, что качество мира исчезнет и останется количество (счетный разум). А может быть, так мы подойдем к пчелиному трудовому государству?»)
Так или иначе, несостоявшийся проект личной жизни Пришвин превращает в состоявшийся проект творчества. Уникальность пришвинской ситуации состоит в том, что хотя пол и эрос в его практике отрицают друг друга, но комплекс, почти обязательно при этом возникающий, у него отсутствует. Это необычно, особенно для художника, который всегда изломан этим несоответствием, а Пришвин, хотя напряжен до крайности в эротическом чувстве, но спокоен и свободен в физическом… Многие так живут и о чем-то втайне мечтают, а Пришвин — писатель, который только об этом тайном и пытается говорить, — к примеру, в повести «Женьшень».
Как всегда в связи с темой пола в дневнике возникает диалог с Розановым. Теперь Пришвину кажется, что он дожил, наконец, до понимания розановских парадоксов («Розанов добрался и до "сладчайшего Иисуса", который является нам в творчестве, и увидел там, что "сладчайший" (радость творчества) обретается за счет того же пола, что весь "эрос" находится внутри пола и христианская культура — это культура по существу эротическая, но направленная против самого рождения человека, она как бы паразитирует на поле, собирает лучи его и защищается духами от пота и вони. Вот и добрался в Розанове до того, чем и сам живу»). Пришвин понимает, что его творчество тоже «паразитирует» на поле, что освобожденный эрос наполняет творчество жизнью. И еще много лет спустя он отметит, что все его писательство — это обращенная в неведомое будущее песня «Приди!»
В дневнике 1931 года появляются записи, свидетельствующие о том, что сквозь страдание, ложь, мрак и жестокость новой жизни Пришвин пытается увидеть и понять смысл происходящего. Речь идет о новой культуре, и писатель понимает, что она уже реально существует, как бы к ней ни относиться… И, конечно, можно ненавидеть свое время, но другого не будет — и потому приходится культурно обживать то пространство («пустое пространство») и то время («время стало холодным»), в котором живешь. Невозможно изменить ход истории, но свидетельствовать о нем — писать… хорошо писать — возвращая истинный масштаб попираемым жизнью ценностям, необходимо. По дневнику видно, как писатель прорывается сквозь бессмыслицу к смыслу, без которого невозможно жить. У него хватает мудрости сквозь современность почувствовать присущее революции обновление жизни. Варварское, невыносимое, но сметающее застывшие культурные нормы, которые уже были (стали) само собой разумеющимися, утратили живой первоначальный смысл, воспроизводились механически, формально — традиция, из которой ушла жизнь, обряд, из которого ушла вера (когда-то в предреволюционные годы Пришвин записал «Россия разломится… скреп нет»)… В момент разрушения, уничтожения всех и вся, из этой пучины возникает новый — варварский — взгляд на культуру («нечто действительно ценное в революции: как будто мы подходим с открытыми глазами к существу вещей»). Этот взгляд снимает патину времен и обнаруживает под ней нечто, что оказывается парадоксальным образом совершенно необходимым здесь и сейчас. Понятно, что это «нечто» — культуру (к примеру, русскую классику) начинают идеологически строить, «варварски» использовать… но и культура сама по себе начинает невидимо действовать — облагораживать варвара.
И трагедия (настоящая) была не только в самой революции, но и в том, что она оказалась репрессивной, механистической, рациональной, мертвящей, а не животворной. Революция, воспользовавшись кризисом культуры, назревшей потребностью в обновлении, оказалась неспособной открыть таящиеся в прежней жизни родники подлинного возрождения. Она оказалась неспособной использовать этот посыл революции (всякой), ее тайный, глубинный, как теперь говорят, мессидж. Напротив, все органическое, продуктивное, уже зарождающееся в недрах старой культуры революция методично уничтожала («Вычитал у Фабра, что он делает свои метеорологические наблюдения, избегая инструментов… зачем термометр, если для своих опытов достаточно узнавать холод и тепло "по себе"… При пользовании инструментом мы обыкновенно приучаемся не "обращать внимание" на непосредственное воздействие среды, утрачиваем корректив "по себе", и вот начало той страшной силы, которую называют по-разному, то схоластикой, то бюрократизмом, то автоматизмом и т. п. Вот говорят: "нам необходимо повидаться". Это значит, что надо отбросить всех посредников общения (всякие термометры, письма, телеграммы и т. п.) и обратиться к свидетельству цельной личности. Я думаю, это и есть истинный смысл того, что называют революцией… люди повидаться хотят и на это ссылаются, то как на "смысл", то как на "естество" и т. д. Бросают Бога, церковь, быт, потому что раз свидание, то зачем все эти посредники. И если эти посредники мешают свиданию, то надо разбить их… Так я понимаю происхождение революций из необходимости личного свидания между людьми»).