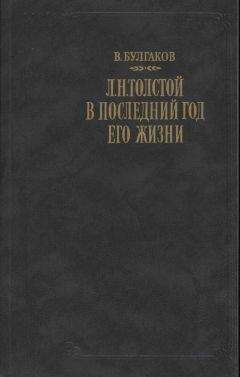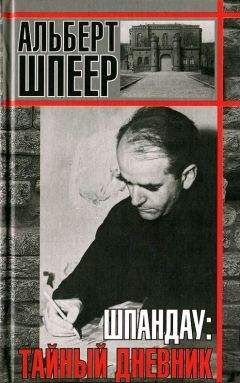Александр Гольденвейзер - Вблизи Толстого. (Записки за пятнадцать лет)
Письмо В. Г. Черткова к Христо Досеву (Это письмо единомышленнику Л. Н. печатается здесь в первой редакции, несколько отличной от напечатанной Чертковым в его книге «Уход Толстого».):
19 октября.
«Дорогой Досев, по поводу твоего последнего письма к Анне Константиновне чувствую потребность, во — первых, от всей души поблагодарить тебя за твое доброе отношение к нам, а во — вторых, возразить тебе на то, что ты в нем говоришь по поводу Льва Николаевича.
Говоришь ты о нем, между прочим, следующее:
«Нет хуже, чем рабство. Но еще хуже рабство у балованного дитяти, избалованного самим тобой. Но я не знаю ничего хуже на свете, чем рабство перед глупой, грубой бабой, которая уверена, что чего она ни захоти, ее раб — муж сделает. Не такова ли Софья Андреевна и не в рабстве ли у нее Л.H.? Его послушание перед Софьей Андреевной я считаю не достоинством, а слабостью. Он делает ей уступки, боясь нарушить любовь. Но разве этим не сам он нарушает великую любовь? Ведь она его отделяет от друзей, от народа, от человечества, она заставляет его жить противной жизнью богача — помещика… Я не упрекаю, не осуждаю Л. Н.
— слишком уж люблю и уважаю его. Но мне жаль его. Жаль мне всю его жизнь и великую проповедь, которая для него самого и для близких ему людей не прошла даром, но которая пройдет даром для народа, для человечества, потому что его внешняя жизнь стушевывает в глазах людей все значение и смысл его слов и мыслей…»
Ты заканчиваешь словами: «Не огорчайтесь моими словами. Повторяю — это слова не осуждения, а боли любящего человека. И поэтому, если я не так вижу что‑нибудь — прости ты, все вы и Л. Н. Лучшая радость жизни моей — это моя любовь к нему, к вам, друзьям по духу».
Именно потому, что я верю искренности твоей любви к Л. Н. и знаю, как и он с своей стороны тебя любит, — именно поэтому я чувствую неудержимую потребность сказать тебе, милый друг Досев, что ты действительно «не так видишь», что ты ошибаешься, предполагая в Л. Н. рабство и непоследовательность там, где он, наоборот, проявляет самую большую свободу — свободу от заботы о человеческом мнении, и наивысшую последовательность — решимость исполнять волю не свою, а Божью, по мере своего понимания и своих сил, и каким бы личным для него страданиям и к какому бы человеческому осуждению и позору исполнение этой воли его ни подвергало.
Ты ошибаешься, полагая, что Л. Н. находится в рабстве у Софьи Андреевны и что он делает все, что она ни захочет. Напротив того, у него есть предел, дальше которого он ей не уступает. Не уступает он тогда, когда она требует от него того, что несомненно против его совести. И от того, что он не уступает до конца, а придерживается такого предела в своих уступках, — именно от этого самого ему и приходится так много страдать от Софьи Андреевны, не дающей ему из‑за этого покоя ни днем, ни ночью.
Относительно того, чтобы уйти от своей жены, Л. Н. за последние десятилетия часто об этом думал и не раз бывал на самой границе того, чтобы совершить этот шаг. Вполне еще возможно, что в конце концов он его и совершит, если убедится в том, что его присутствие около жены не достигает своей цели, а только больше волнует ее и поощряет ее домогательства и деспотизм. Но для этого ему необходимо ясно и несомненно сознать в своей совести, что ему действительно следует ее оставить. Если же до сих пор он еще этого не сделал, то вовсе не потому, чтобы ему было приятнее или следует уйти, что воля Божья — в том, чтобы он ушел. Ему лично настолько было бы приятнее, покойнее и во всех отношениях удобнее, если бы он ушел, что он боится поступить эгоистично, сделать то, что ему самому легче, и отказаться из малодушия от несения того испытания, которое ему назначено.
Ведь если бы он ушел из яспополянского дома, то при его преклонных летах и старческих болезнях он уже не смог бы теперь жить физическим трудом. Не мог бы он также пойти с посохом по миру для того, чтобы заболеть и умереть где‑нибудь на большой дороге или прохожим странником в чужой избе. Как бы привлекателен ни был для него самого такой конец его жизни и как театрально блестяще это ни показалось бы той толпе, которая в настоящее время его осуждает, он не мог бы так поступить из простой любви к любящим его людям: к своим дочерям и друзьям, близким ему по сердцу и по духу. Он не мог бы, не становясь жестоким, отказать им в том, чтобы поселиться где‑нибудь в маленьком помещении, где они сами без участия прислуги занимались бы его скромным домашним хозяйством, окружая его необходимыми в его возрасте сердечными попечениями и облегчая ему возможность беспрепятственно общаться с столь любимым им рабочим народом, от которого он в настоящее время совершенно отрезан. Ведь такая тихая и свободная жизнь, в сравнении с тем адом, в котором ему сейчас приходится жить, была бы для него настоящим раем. Спрашивается, почему же он не воспользуется такой вполне доступной ему счастливой внешней обстановкой, благо жена его, казалось бы, давно уже дала ему достаточно поводов для того, чтобы покинуть ее дом? Почему хоть теперь, на склоне лет своих, он не скинет наконец с себя то тяжелое бремя, которое в лице Софьи Андреевны он носит на своих плечах вот уже 30 лет, иногда почти совсем изнемогая под ним? Очевидно, что если он не делает этого, то никак не из слабости или малодушия, не из эгоизма, а напротив того, из чувства долга, из мужественного решения оставаться на своем посту до самого конца, из жертвы своими предпочтениями, своим личным счастьем, ради исполнения того, что он для себя считает высшей волей.
В июле 1908 года Л. Н. переживал один из тех, вызванных Софьей Андреевной, мучительных душевных кризисов, которые у него почти всегда оканчиваются серьезной болезнью. Так было и в этот раз: он тотчас после этого заболел и некоторое время находился почти при смерти.
Приведу несколько выдержек из его дневника, записанных им в дни, предшествовавшие болезни:
«Если бы я слышал про себя со стороны — про человека, живущего в роскоши, отбивающего все, что может, у крестьян, сажающего их в острог и исповедующего и проповедующего христианство, и дающего пятачки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой, — я бы не усумнился назвать его мерзавцем! А это‑то самое и нужно мне, чтобы мне освободиться от славы людской и жить для души….»
«…Все так же мучительно. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание…»
«…Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которой я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть…»