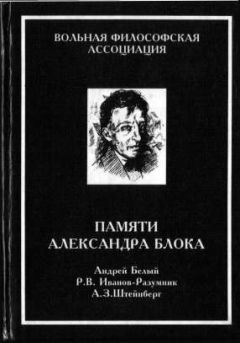Андрей Белый - Памяти Александра Блока
Я видел, что это только предлог и вопросительно смотрел на «генерала».
— Скажите, пожалуйста, — обратился он ко мне, — Ваш приятель — это ведь писатель Блок? А он по серьезному делу?
Я сказал, что по всей вероятности, его сейчас освободят.
— Понимаете ли, — начал мой поздний гость, очевидно, давно собиравшийся поделиться тем, что у него на душе, — я в совершенно таком же точно положении. С минуты на минуту жду решения участи. Ах, какая это мерзкая, низкая личность! Представьте себе только: отправляюсь вчеpa в моторе на Николаевский вокзал, там меня ждет салон-вагон, чтобы отвезти на Восточный фронт (я начальник всей артиллерии одной из действующих армий), и вдруг меня самым неожиданным образом задерживают и препровождают сюда. Такая мерзкая, низкая личность! Это донос! И я понимаю, если бы это еще было из каких-нибудь честных побуждений, а то просто низкая интрига и ничего больше! Не он получил назначение, а я, и вот готов потопить человека самым гнусным способом. Но я не боюсь, меня сам Лев Давидович лично знает (он имел в виду Троцкого), я потребовал, чтобы немедленно отправили телеграмму ему. С минуты на минуту должен быть ответ… (он посмотрел на часы). Уже четыре часа!.. Однако, я думал, что, быть может, ночью уж не вызывают, но вот позвали же приятеля Вашего.
Волнение его возрастало с минуты на минуту. Было ясно, что дело для него идет действительно не больше не меньше, как о всей его участи. Он продолжал:
— Я, понимаете ли, загадал, что если мне суждено на этот раз уйти невредимым от этой гнусной клеветы, то выйду я не позже, чем этот вот Ваш приятель. Вы удивляетесь? Я, видите ли, наслышался здесь о нем, ведь это тоже такая судьба: видный революционер — и вдруг здесь! И не то чтоб там какой-нибудь переворот, или что-нибудь такое…
— Ну, какой же он видный революционер: это писатель, и даже не писатель, а поэт.
— Ну, не говорите, такие люди самые опасные. Я всегда так рассуждал. Не будь у нас всех этих графов Толстых и тому подобных, никогда не произошло бы то, что случилось, это несомненно.
— Скажите, генерал, разве Лев Толстой не стоит какой-нибудь потерянной провинции? Вы не согласны с этим?
— Ну, да, Вы человек не русский, Вам легко так рассуждать. А посмотрите, в конце-то концов, теперь разве не то же, что и раньше было? Я, знаете, это быстро уразумел. Генерал всегда есть генерал; без генералов армии быть не может; и великая держава не может быть без сильного правительства. А раз есть правительство, то должна быть и тюрьма, и расстрелы, и все, что хотите. А такие люди, как Ваш приятель, они всегда элемент нежелательный, и каждый серьезный государственный деятель это отлично знает.
Я принужден был согласиться, и он еще долго пояснял свою мысль примерами из самого недавнего своего опыта. Наконец, Блок вернулся. В глазах у генерала сверкнуло злорадство.
Блоку вернули взятую у него записную книжку, потребовали кое-каких объяснений по поводу некоторых адресов и записей, сказали, что дело его скоро решится, и отправили обратно наверх. Он сам, как и при первом допросе, ни о чем не спрашивал.
Генерал поднялся с нашей койки и сказал:
— А я, пожалуй, еще успею Вас нагнать! Вот сосед Ваш объяснит Вам, — обратился он к Блоку, — а теперь желаю покойной ночи.
Я передал Блоку нашу беседу.
— Мы, очевидно, с первого взгляда узнали друг друга, — улыбнулся он. — Ну, а теперь надо попытаться снова заснуть.
Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла своим обычным порядком, уже начали готовиться к очередной отправке на Шпалерную, когда снова появился особый агент и, подойдя к Блоку, сказал:
— Вы — товарищ Блок? Собирайте вещи… На освобождение!
Затем он с таким же сообщением направился к «генералу».
Блок быстро оделся, передал оставшийся еще у него кусок хлеба, крепко пожал руку моряку Ш., матросу Д., рабочему П. и попросил передать привет не оказавшемуся поблизости «искреннейшему почитателю». Мы расцеловались на прощание.
— А ведь мы с Вами провели ночь совсем как Шатов с Кирилловым, — сказал он.
Он ушел.
Так кончилось кратковременное заключение того, кто называл себя сам в третьем лице — «торжеством свободы».
Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК
В воскресенье, 7-ю августа, в Вольной Философской Ассоциации было обычное открытое заседание, — мы слушали доклад о Гете, — когда пришла не слишком неожиданная и все же ошеломившая весть: сегодня утром умер Блок…
Было это всего три недели тому назад — и как будто года прошли с тех пор: так смерть эта перерезала нашу эпоху на две совсем разные части — «до» и «после». Смерть эта — не рана в душах наших, которая затянется, заживет; смерть эта — не разрезала, а отрезала; не порез, но разрыв, не рана, но ампутация. Смерть Блока — символ; он умер — умерла целая полоса жизни.
И вот — всего три недели прошло, а уже можно смотреть в это прошлое историческим взглядом, нужно вспоминать, поднимая в памяти крепко залегшие, но такие близкие пласты, что, казалось бы, рано еще будить их к жизни. Вот почему, быть может, было правдиво наше первое чувство, когда мы было решили не устраивать никаких заседаний «памяти Блока», предоставив это тем, кто может теперь о Блоке говорить спокойно. Я говорю — быть может, это первое чувство было правдивым, но обстоятельства заставили нас от него отказаться: не успел Блок умереть, как справа и слева — или, вернее: справа и справа — стали раздаваться всякие случайные голоса, которые хотели из Блока сделать свое знамя — даже не знамя, а какой-то боевой вымпел. Мы же — твердо верим, что Блок есть знамя целой эпохи, и знамя только самого себя; и литературным и политическим партиям, желающим причислить его к себе, надо с самого же начала сказать — руки прочь! Руки прочь! — кто хочет из Блока сделать поэта прошлого времени; руки прочь! — кто из Блока хочет сделать поэта «будущего» в кавычках.
Но это — не моя задача сегодня; Андрей Белый в своей речи коснулся этого, дав облик цельного Блока, облик поэта-Диониса, не разорванного Менадами. Моя задача иная: вспомнить об отношении Александра Александровича к Вольной Философской Ассоциации, членом-учредителем которой он был. Но наша «Вольфила» создавалась и росла в бурном процессе кипения эпохи, и в отношениях А. А. Блока к Вольфиле мне — да и всем вам — может быть интересно лишь то, что отражало самую эпоху, начиная с семнадцатого года. Я расскажу только очень немногое, — многого не скажешь не потому, что времени мало, а потому, что время еще не пришло; это многое могло бы составить целую книгу, которая, вероятно, никогда не будет написана. Итак — из многого ограничиваюсь только очень немногим.