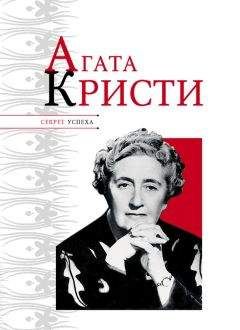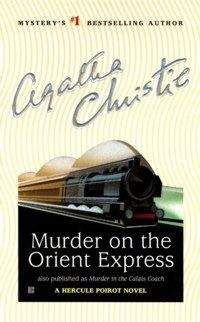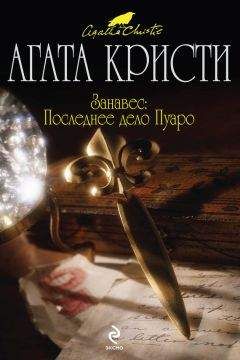Ромен Роллан - Жизнь Микеланджело
Ничто не удерживает его больше на земле: ни искусство, ни честолюбие, ни нежность, ни надежда, какая бы ни была. Ему шестьдесят лет, жизнь его кажется оконченной. Он одинок, он не верит больше в свои произведения; у него тоска по смерти, страстное желание вырваться наконец от этих «перемен существа и желаний», от «неистовства часов», от тирании «необходимости и случайности».
Увы, увы, как правды мало
И в днях бегущих и в зерцале целом,
Что взгляды пристальные отражает!
Беда тому, кто шаг свой замедляет,
Как сделал я, — а время было мало,
И оказался в возрасте столь зрелом,
Что ни раскаяться в порыве смелом,
Ни столковаться с смертью не могу я.
С самим собой враждуя,
Я слезы лью, не облегчая бремя:
Зло худшее — потерянное время.
Увы, увы, и даже озираясь
На прожитое, я не нахожу там
Ни часа, чтоб был дан мне в обладанье!
Надежды ложные, мечты, желанья, —
Любя, пылая, плача, содрогаясь,
Всем страстным заплатил я дань минутам,
Как жертву, бросили меня всем путам
Вдали от правды ясной,
Средь темноты ужасной, —»
И время‑то тогда казалось малым:
Продлись оно — я был бы все ж усталым.
Иду, увы, куда и сам не знаю,
И я боюсь, что время прохожденье
Я вижу лишь с закрытыми глазами,
Иль листья и кора сменились сами.
Смерть и душа по отношенью к раю
Мое испытывают положенье.
О, если б в заблужденьи
Я был по божьей воле!
В том ада доля,
Что, видя благо, отдал злому дань я.
Теперь осталось мне лишь упованье[215].
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОТРЕЧЕНИЕ
I
ЛЮБОВЬ
I' me la morte, in te la vita mia. Я — смерть себе, и жизнь моя — в тебе лишь[216].
Тогда в этом опустошенном сердце, отказавшемся ото всего, что его живило, подымается новая жизнь, вновь зацветает весна, любовь зажигается более светлым пламенем. Но в любви этой не было уже почти ничего эгоистического и чувственного. Это было мистическое юбожание красоты некоего Кавальери. Это была религиозная дружба с Витторией Колонна, — страстное общение двух душ в боге. Наконец это была отеческая нежность к осиротевшим племянникам, жалость к бедным и слабым, святое милосердие.
Любовь Микеланджело к Томмазо деи Кавальери легко может смутить ограниченные умы (нравственные или безнравственные). Даже в Италии конца Возрождения она рисковала вызвать досадные толкования. Аретино делал по поводу ее оскорбительные намеки[217]. Но оскорбления со стороны таких людей, как Аретино (а они всегда найдутся), не могут достигнуть до Микеланджело. «Они создают в своем сердце Микеланджело из того материала, из которого создано их собственное сердце»[218].
Не было души чище души Микеланджело. Ни одна душа не имела о любви понятия более религиозного.
«Я часто слышал, — говорит Кондиви, — как Микеланджело говорил о любви; те, которые присутствовали при этом, находили, что рассуждал он совершенно так же, как Платон. Что касается до меня, то я не знаю, как Платон рассуждал по этому поводу, но, находясь с Микеланджело в столь продолжительных и близких сношениях, я прекрасно знаю, что из уст его исходили речи в высшей степени достойные почтения и способные угасить в молодых людях беспорядочные желания, которые их волнуют».
Но в этом платоническом идеализме не было ничего литературного и холодного; он соединялся с неистовством мысли, которое делало Микеланджело добычей всего прекрасного, что встречалось ему — на пути. Он сам знал это и высказал однажды, отклоняя приглашение своего друга Джаннотти:
«Когда я вижу человека, обладающего каким‑нибудь талантом или умственным дарованием, человека, который умеет что‑нибудь делать или говорить о чем‑нибудь лучше остальных людей, я чувствую потребность влюбиться в него, и тогда я отдаюсь ему всецело, не принадлежа уже себе… Вы все так богато одарены, что я потеряю свою свободу, прими я ваше предложение; каждый из вас похитил бы у меня кусочек меня самого. Все, вплоть до танцора или музыканта на лютке, могут сделать со мною все, что им угодно, если они достигли совершенства в своем искусстве. Вместо того, чтобы отдохнуть, укрепиться, развлечься в вашем обществе, у меня душа будет растерзана и пущена по ветру, так что в течение многих дней после этого я не буду знать, в каком мире я движусь»[219].
Если его до такой степени покоряла красота мыслей, слов или звуков, насколько более должна была побеждать его красота тела!
Могущество прекрасных лиц мне — шпора.
Утехи высшей в мире я не знаю…[220]
Для этого великого создателя удивительных форм, бывшего в то же время великим верующим, прекрасное тело было божественно, — прекрасное тело было самим божеством, являющим себя через покровы плоти. Как Моисей к Неопалимой купине, он приближался к нему с трепетом. Предмет его обожания поистине был для него, как он сам выражался, «Идолом». Он распростирался у его ног; и это добровольное унижение великого человека, которое было в тягость самому Кавальери, было тем более странно, что часто у прекрасноликого идола душа была пошлой и презренной, как, например, у Фебо ди Поджо. Но Микеланджело ничего не замечал… Действительно ли он ничего не замечал? Он не хотел ничего замечать; в своем сердце он доканчивал начатую статую.
Самым первым по времени из этих идеальных возлюбленных, из этих живых грез был Герардо Перини, — около 1522 года[221]. Затем, в 1533 году, Микеланджело влюбился в Фебо ди Поджо, а в 1544–м[222]в Чеккино деи Браччи, Таким образом, привязанность его к Кавальери не была исключительной и единственной; но она была длительной и достигала высокой степени восторженности, которую до известной степени делала законной не только красота, но и нравственное благородство друга.
«Превыше, без сравнения, всех других он любил, — говорит Вазари, — Томмазо деи Кавальери, римского дворянина, молодого и страстно влюбленного в искусство; он сделал на картоне его портрет в натуральную величину, — единственный нарисованный им портрет, так как он питал отвращение к копированию живых людей, разве только они отличались несравненной красотой».
Варки прибавляет:
«Когда я увидел в Риме мессера Томмазо Кавальери, он отличался не только несравненной красотою, но и обладал таким изяществом манер, столь изысканным образом мыслей и благородством поведения, что чем больше его знали, тем больше он заслуживал любви»[223].