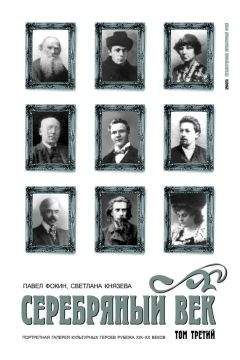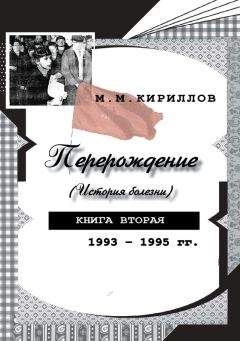Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.
…У Якова Александровича была своя манера в работе с актерами и актрисами. Он не гонялся за рекламой и шумихой, он работал, думая об успехе целого, то есть картины, ставя на первый план игру актеров. Зная хорошо специфику кино, Протазанов помогал актерам театра освоить новое для них искусство. Он их вел, выдвигал, следя за их ростом и развитием от картины к картине. Каждый раз он ставил новые задачи, стараясь выявить творческое лицо актера, а не пользуясь только его внешними данными.
Яков Александрович не увлекался игрой вещами, не подменял ими игру актера или актрисы, если этого не требовалось для усиления или подчеркивания переживаний героя или смысла самой картины. Режиссера интересовал в работе с актером живой человек с жизнью его души. Он добивался от актера проявления той содержательности, которую природа вложила в него, помня, что актеры большей частью от природы гораздо богаче, чем выявляют это в жизни.
…Протазанов умел добиться от актера выразительности: детально разрабатывая образ, обговаривая мельчайшие подробности внутренней его жизни, особенно внимательно относясь к мимике и выражению глаз актера, никогда ничего не навязывая, а лишь подводя к тому, чтобы сам актер делал то, что хотелось получить от него режиссеру, он фактически суммой своих приемов приводил актера к максимальной отдаче себя исполняемому образу. Протазанов никогда не занимал в главных ролях „типаж“, а привлекал крупных актеров. Если на маленькие роли привлекались менее известные актеры, то и от них умел Протазанов терпеливо и вдохновенно добиваться жизненной правды и содержательности. Поза, голая форма без содержания никогда его не увлекали, они были чужды его темпераментному режиссерскому таланту. Конечно, работать с живой душой актера гораздо труднее, чем с вещью, надо уметь подойти к актеру, разбудить в нем творческую жизнь и увлечь его фантазию. Это Яков Александрович умел делать чудесно, в противовес многим другим режиссерам. Он умел работать с актерами, как никто из его современников. Он добивался красоты, не подменяя ее красивостью, и если в отдельных сценах его картин играли вещи, то они всегда были связаны с сюжетом сценария или с игрой актера, а, стало быть, не были просто формальным приемом.
…Протазанов как режиссер поистине „умирал в актере“, а не выделял себя или свою фантазию. Так может поступать только режиссер – друг актера.
В предварительной работе Яков Александрович был очень внимателен и ничего не делал наспех; он продумывал и обсуждал детально черты характера героев сценария, их внешность, линию поведения. Мне не раз приходилось работать с Протазановым как соавтору сценария. Протазанов был врагом всякой пошлости. Всегда его предложения были не шаблонны, а свежи.
Нам было очень легко работать вместе с Яковом Александровичем. Наряду с тем, что он был одаренным и талантливым человеком, в нем отсутствовало упрямство и самомнение. Он всегда охотно выслушивал все предложения актера и никогда не считал, что сказанное им незыблемо и является единственно правильным.
…Режиссер Протазанов, всегда собранный, энергичный, не знавший усталости, руководил съемкой как большой художник.
…Протазанов очень тонко чувствовал выразительность глаз. Только он один из всех режиссеров умел в то время в выражении глаз актера уловить переход к следующему внутреннему состоянию, чувствуя нужную продолжительность взгляда. Его знаменитые сигналы во время репетиций: „пауза… вглядывается… вглядывается… пауза… вспомнила… пауза… пауза… пауза… опустила веки“… или „вглядывается больше… пауза… увидала… отвела глаза…“ – не были подсказыванием или диктовкой того, что должны выполнять актриса или актер. Они происходили из абсолютного слияния с внутренней жизнью актера. Это „пауза, пауза…“ произносилось всегда по-разному, в зависимости от того чувства, от той задачи, которыми жил персонаж. Никогда не произносил он „пауза“ громко, ибо этот чуткий режиссер, так любивший актера, хорошо понимал, что глаза – это зеркало души, чувство идет через глаза и что чувство нечто тонкое, интимное, к нему надо подходить осторожно, его легко спугнуть.
Тогда мы снимали только немые фильмы, но во время самой съемки было тихо. Протазанов ничего не говорил. Все, о чем я рассказала выше, он делал только во время репетиции перед самой съемкой. Так по крайней мере было во время съемок, в которых участвовала я.
Протазанов много и подробно расспрашивал нас о работе в театре, о методе Станиславского, и мне казалось, что он брал от нас все то, что могло обогатить его как режиссера.
Мое состояние во время работы с Протазановым в часы, когда он стоял у аппарата, было таким же, каким бывало на сцене, когда чувствуется абсолютный контакт со зрительным залом, когда зрительный зал, затаив дыхание, ловит каждое твое слово.
…Была у Якова Александровича помимо профессионального мастерства еще одна богатая сила – это энтузиазм, всех нас объединявший. Он отдавал свое сердце любимому делу и актеру. Он умел, когда нужно, быть ласковым, но порой и строгим и жестким, умел обращаться с человеческим материалом, отдавая ему самое лучшее, что было в его собственной душе» (О. Гзовская. Режиссер – друг актера).
ПУМПЯНСКИЙ Лев Васильевич
Историк литературы. Автор статей о Кантемире, Тредиаковском, Пушкине, Тютчеве, Лермонтове, Тургеневе. Монография «Достоевский и античность» (Пг., 1922). Прототип Тептелкина – героя романа К. Вагинова «Козлиная песнь».
«Льва Васильевича Пумпянского я тоже знал хорошо. В течение нескольких месяцев он преподавал у нас в Тенишевском историю русской литературы, и преподавал превосходно. Потом я неоднократно слышал его доклады и выступления на разных собраниях. Это был тощий, длинный, сутуловатый человек лет около тридцати, мягкий, кроткий, очень вежливый. Говоря, он пришепетывал и присвистывал – впрочем, весьма приятно. Однако мягкость и кротость не мешали ему – вплоть до 1925 года – относиться к революции резко враждебно. Чтобы не произносить слово „товарищи“, он все свои публичные выступления начинал словами: „Уважаемое собрание!“ Через год-два после окончания школы я стал брать у него уроки французского языка. Я приходил к нему три раза в неделю, и мы читали с ним вместе „Fleurs du mal“ [франц. „Цветы зла“. – Сост.] Бодлера. Но занятия шли довольно плохо, потому что бóльшую часть отведенного на урок времени он занимал меня разговорами о „метапсихике“. „Метапсихикой“ он называл особое мистическое учение – нечто среднее между теософией и спиритизмом. Он убежденно рассказывал мне, что по ночам души людей, превращаясь в „астралы“, перелезают из тела в тело.