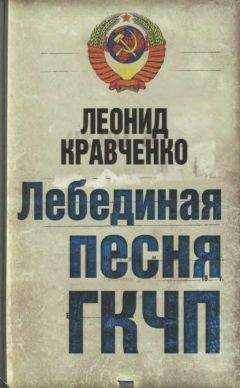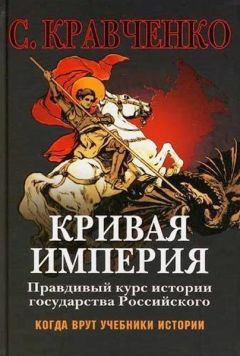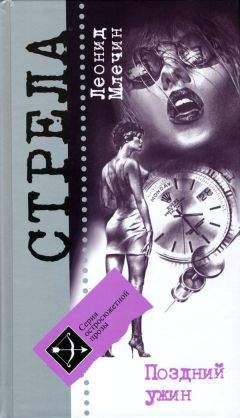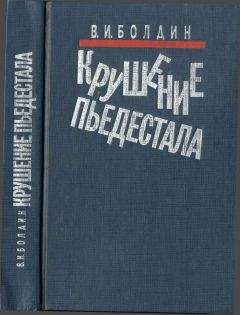Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
Однако в той же Ялте Макс обнаруживает столпотворение творческой интеллигенции; было здесь и немало беженцев из Москвы и Петрограда. Работала выставка «Искусство в Крыму», организованная в ноябре С. Маковским. Среди её участников оказались такие крупные фигуры, как И. Билибин, С. Сорин, С. Судейкин; выставлялись работы Н. Альтмана, И. Репина, А. Голубкиной. Принадлежность к конкретным школам и течениям на этот раз не учитывалась. Выставил свои произведения и М. Волошин.
Лекции поэта начались здесь же, в помещении выставки, 15 ноября. В своих выступлениях Волошин расширял историко-эстетическую тематику за счёт недавно написанных стихов. Звучали «Святая Русь», «Дмитрий-император», «Стенькин суд»… 16 ноября поэт выступил в помещении женской гимназии с лекцией о Верхарне. Обратимся вновь к свидетельствам «Неизвестной»: «К назначенному часу зала была переполнена молодёжью. Из санатория приплелись больные, ради Волошина нарушившие строгий режим. В тёмном уголке зала, поближе к выходу, мелькали лица знакомых коммунистов-подпольщиков, ради заманчивой лекции рисковавших жизнью.
М. Волошин прибыл с нерусской аккуратностью, точно к назначенному часу, и, легко неся полное подвижное тело, быстро пробежал сквозь толпу к эстраде. При первом взгляде на него мы почувствовали разочарование: сильная полнота и окладистая борода делали его похожим на купца. Но как только раздался его голос, певучий и мягкий, — так сердца юных слушателей были покорены». Многие тогда ощутили внутреннее родство Волошина с Верхарном, «чувствовалось, что оба они люди огромного размаха, сверхчеловеческой силы, оба певцы космических взрывов. Волошин называл Верхарна современным человеком со средневековой душой, мистической и буйной. Певец восстаний, он проклял власть машин и золота. И он же воспевает тихую любовь, стихийную и мудрую, нежную, как былинка вереска, любовь, внушённую тишиной мирных долин, воспевает милый край, где „издалека резная колокольня глядит на вас старинными часами“. В то же время Верхарн пророчески предсказывает, что закоснелость мирной жизни приведёт к предельным ужасам Апокалипсиса и родит ненависть».
Слушателям запомнилось стихотворение Верхарна «Толпа» в художественной интерпретации Волошина. Многим из сидящих в зале были близки воплощённый здесь пафос революции, мысль о неизбежности мига, когда «разум меркнет, сердце рвётся к славе или преступленью», когда приходит «час дерзаний и жестов огненных», когда «взлетаешь вдруг к вершинам новой веры». От Верхарна лектор плавно перешёл к собственным стихам. «Несмотря на лёгкий налёт мистицизма, они к тому времени были потрясающе, недопустимо революционны, и мы всё время боялись, что Волошина арестуют белые». Отнесём эту оценку к субъективным эмоциям молодой женщины. Обратим внимание на другое. Когда поэт произнёс сакраментальную строку: «Я ль в тебя посмею бросить камень…», его душевный трепет передался слушателям — многие плакали. Аудитория была наэлектризована. Такого эмоционального восприятия, такого успеха Макс ещё не знал. По словам всё той же свидетельницы, в зале «хлопали, кричали, стучали ногами, бросались к поэту на эстраду, качали его, забрасывали цветами»…
24 ноября Волошин берёт курс на Севастополь — по морю; оттуда, уже поездом, отправляется в Симферополь. Пароход был набит добровольцами, так что всю дорогу пришлось стоять. Нельзя было сменить позу и в поезде; все восемь часов пути до Симферополя в товарном вагоне были заполнены ядрёными солдатскими анекдотами, революционно-пролетарским фольклором. Верный самому себе, Макс не противопоставляет своих столь разных по мировоззрению и политической ориентации попутчиков. Он отмечает «очень милое дружеское отношение друг к другу» и вообще «скорее приятное» впечатление от людей. Симферополь оказался забит «министрами, профессорами и громилами». Последние были для Макса уже не в диковинку. Впрочем, на волошинские выступления они не являлись. Сам лектор остался доволен: заработал 800 рублей, да и «моральный успех был большой».
Через месяц поэт снова в Севастополе. На этот раз он решает здесь задержаться. Да и как не задержаться?.. На рейде важно стоят корабли союзников, со дна бухты поднимают дредноут «Императрица Мария» (причём Волошин спускается внутрь, в подводную часть судна), по улицам вальяжно разгуливают английские и французские моряки, в Институте физических методов лечения проходит, несмотря ни на что, съезд Таврической научной ассоциации. Макс поселяется в помещении гимназии, в кабинете врача — «в одной комнате со скелетом». Ему одинаково интересно бывать и в «разобранных железных внутренностях морского чудовища», и в аудиториях института, где он встречает много знакомых профессоров из самых разных областей науки — геологии, ботаники, энтомологии, невропатологии, астрономии, археологии и т. д. Среди его хороших знакомых — учёные мужи, инженеры, артисты, а также «политические деятели революции и контрреволюции», в том числе экзотический Фёдор Баткин (упоминаемый в стихотворении «Матрос»), который в 1917 году под видом матроса Черноморского флота вёл агитацию за продолжение войны до «победного конца».
Крымскому успеху Волошина как поэта и лектора способствовала публикация поэмы «Протопоп Аввакум». Несмотря на историческую отдалённость сюжета, условность повествования от первого лица, сложность стиля, наличие «безрифменного, свободногнущегося размера» (по определению самого автора), поэма приобретает необыкновенную популярность. В Таврическом университете она обсуждается на студенческих семинарах, журнал с её текстом (Родная земля. Киев, 1918, № 1) выписывается для школьных библиотек Симферополя. Даже такой взыскательный ценитель поэзии, как И. А. Бунин, относящийся к Максу весьма настороженно, как и вообще ко всем «декадентам», отметит после авторского чтения «Аввакума» в апреле 1919 года: «Справился с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна».
Однако житийная стилистика поэмы не могла скрыть её пафос, обращённый в современность:
…Аз есмь огонь, одетый пеплом плоти,
И тело наше без души есть кал и прах.
В небесном царствии всем золота довольно.
Нам же, во хлябь изверженным
И тлеющим во прахе, подобает
Страдати неослабно.
Что будет плаванье?
По мале времени, по виденному, беды
Восстали адовы, и скорби, и болезни.
Вера в человеческий дух, возносящийся над исторической бездной, — вот что стремился передать читателям поэт:
…Время
Приспе страдания.
Крепитесь в вере.
Возможно Антихристу и избранных прельстити…
А на вопрос, «что будет плаванье» и кто в нём будет кормчим, Волошин ответил статьёй «Вся власть патриарху», которая была опубликована 22 декабря 1918 года в газете «Таврический голос». На первый взгляд, считает поэт, власть должна быть сосредоточена в руках Добровольческой армии. Но она — только орудие, «великая политическая молчальница». Перед властью стоит трудная задача, и неизвестно, как она с ней справится. «Но в то же время положительное разрешение её глубоко необходимо, потому что сейчас все русские политические партии, последовательно берясь одна за другой за политическое водительство России, скомпрометировали себя окончательно и безнадёжно… Каждая — за исключением большевиков, но их цели и побуждения были иные… Русские партии за время революции ничему не научились и ничего не поняли». Так что же — военная диктатура? «Но Наполеона у нас не предвидится», а любой ординарный, доморощенный генерал, при реальной власти союзников, станет «подставным лицом без инициативы».