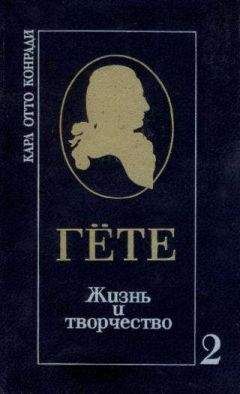Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни
Теперь Ифигения ощущает себя оставленной на произвол судьбы, отвергнутой, низринутой в безысходность, и она страшится, что при таком дурном повороте в ее судьбе в ней может дать всходы древняя ненависть потомков Тантала к олимпийским богам. «Спасите же меня» / И образ ваш в груди многострадальной!» (5, 191). Уверовать в доброту богов она теперь способна лишь в случае, если целой и невредимой, не утратив внутренней гармонии, сможет выйти из этого конфликта. И это ей удается — но не благодаря вмешательству богов, а потому лишь, что она сама, абсолютно самостоятельно, решается на «неслыханное»: презреть ложь и обман и сделать ставку только на правдивость. И «песню парок» она продолжила многозначной строфой собственного сочинения:
Так плакали парки;
Их слушал страдалец,
Низринутый в бездну.
И думал, злосчастный,
О детях, о внуках
И тряс головой.
(Перевод Н. Вильмонта — 5, 192)
Но разве Тантал, «злосчастный», думал о жестокой судьбе детей и внуков, о том, не избавится ли, наконец-то, хоть кто-то из его рода от проклятья? Нет, лишь Ифигении удается в следующем, пятом действии пойти по пути свободного принятия решения, что разрушает предопределенную неизбежность цепи событий в прошлом.
В решающий момент она не в силах заставить себя лгать. Она не способна на обман и начинает лепетать: «Они… Я греками считаю их!», а потом, «немного помолчав», желает назвать «неслыханным» нечто иное, чем лишь воинские подвиги мужчины, она пытается доказать это «неслыханным» поступком: сознается в том, что произошло на самом деле, и взывает к великодушию Фоанта. Он же действительно не остается глухим к ее призывам проявить гуманность и отпускает греков. Его прощальные слова «Счастливый путь!» скрепляют отказ от пролития крови.
Правда, Гёте не удается обойтись без искусственного хода в непрочном сплетении побудительных причин. Когда Фоант, не желающий ронять достоинство своей страны перед лицом греков, отказывается без боя отдать им «священное богини изваянье», Орест мигом переиначивает наказ Аполлона — трактуя его по-новому, правильно: речь шла, оказывается, не о культовом изваянии Дианы, а о его, Ореста, родной сестре — Ифигении. Лишь это создает предпосылки для счастливой развязки; ведь Ифигения теперь может обратиться к царю тавров, призывая его сдержать свое обещание — отпустить ее («подчиниться року»), раз ей «на родину возврат… сужден» (5, 145). Иными словами, не общий призыв проявить гуманность воздействует на решение Фоанта, а лишь данное им некогда обещание.
Эта особенность построения сюжета между тем никак не принижает значимости «неслыханного» поступка, который лишь и позволил восторжествовать гуманной развязке. Когда люди ведут себя таким образом — и лишь в этом случае, — в результате оказывается, что это «боги» не желали зла. Исцеленный Орест и Ифигения, принявшая самостоятельное решение говорить правду, — вот кому по ходу действия пьесы открывается истинный смысл изречения оракула, приводящий в результате к примирению. Фоант же своим поступком доказывает, что, сдержав свое обещание, отказавшись от мести, наказания и проявления царской власти, он способен внять «голосу правды и человечности» (5, 198) и откликнуться на него.
А царь варварского народа (один из любимых в XVIII веке образов «благородного дикаря», который своими гуманными поступками посрамляет представителей европейской цивилизации) в конце концов остается в одиночестве, брошенный всеми. Это он остается страдающей стороной в том образцовом представлении на тему гуманности, которое осуществлено в «Ифигении»; это он — подобно Селиму Басса в моцартовском «Похищении из сераля» — своим поведением отказывается от применения насилия и в заключительной сцене почти что утрачивает дар речи. Пришел ли он в замешательство или ожесточился, потрясен происшедшим или молчит, раздумывая о своем, — кто знает? «Что ж — в путь!» (5, 205) и «Счастливый путь!» — вот и все, что он оказался в силах произнести между множеством строк, принадлежавших Оресту и Ифигении, и мы так и не узнаем, в самом ли деле способен он подать руку отплывающим «в залог вовеки нерушимой дружбы», как того желает Ифигения (5, 206). Гуманность торжествует за его счет. Что станет с ним, тем, о котором говорилось: «Царя пугает старость / Беспомощная, может быть, мятеж / Открытый и безвременная гибель» (5, 141)? Народ тавров, на который пребывание Ифигении подействовало смягчающе, умерив кровавые обычаи древности, вообще вне поля зрения героев Гёте, хотя Аркад и взывал к жрице: «Нигде не может кротость, что с небес / В людском обличье к людям снизошла, / Быстрее строить, чем в стране дикарской, / Где племя юное в расцвете сил, / Без помощи сторонней, груз тяжелый / Юдоли человеческой несет» (5, 182). Если в пределах моральных построений на темы гуманности одна сторона обязана лишь нести издержки, а другая может воспользоваться результатами, обременившими тех, кто больше всего нуждается в помощи, — что ж, здесь ряд вопросов остается открытым.
И без того в построении сюжета гётевской «Ифигении в Тавриде» вовсе не все так уж ясно и понятно, как то желает представить расхожее мнение о гуманности образа Ифигении. Тантал по-прежнему не избавлен от проклятья — тот, кому сострадает Гёте и кто с олимпийцами «вел себя недостаточно подчиненно». И «песня парок» тоже еще не завершающий аккорд; она, скорее, напоминает о том, что не стоит предавать забвению по-прежнему возможный произвол богов, что надо противоборствовать им. Так на заднем плане возникает намек на угнетение и бунт.
Далеко не отошла от реальности пьеса, задуманная как образец для подражания. Даль мифа и искусный язык белого пятистопного ямба создают определенную дистанцию, которая помогает осознать, что здесь представлено не истинное положение вещей, а то, как все может и должно быть. Вот в какой степени сама тема пьесы и ее воплощение достаточно серьезно подчеркивают содержащуюся в ней основную мысль. Она либо может оказать требуемое действие, либо на нее остается лишь дивиться, как на прекрасную, но далекую от реальности схему. Уже после премьеры прозаического варианта пьесы ее автор записал в дневнике: «Сыграли Иф.[игению]. Довольно хорошее воздействие, особенно на чистых людей» (дневник, 6 апреля 1779 г.). Через два дня в дневниковой записи содержится примечательная оговорка: «Несправедливо сомневаться в способности человека чувствовать и понимать; здесь можно верить, что люди способны на многое; но вот на их поступки не стоит рассчитывать». Гёте довольно критично оценивал свою драму. Когда в 1802 году он «тут и там просмотрел ее», она показалась ему «дьявольски гуманной» (письмо Шиллеру от 19 января 1802 г.). При беглом «просмотре» он, пожалуй, увидел, что образы основных героев, Ореста и Ифигении, позволяют слишком легко разрешить конфликты, так что личность здесь даже чересчур застрахована от неудачи, едва ее устремления оказываются гуманными.