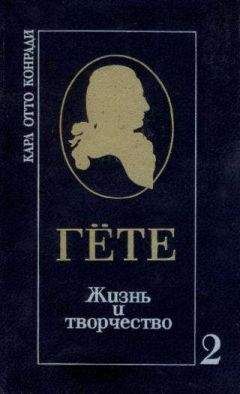Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни
Но как вообще возможно искупить такое чудовищное преступление — убийство матери? Возможно ли освободиться от вины тому, кто совершил подобное преступление? Правда, кто виновен в нем — понять невозможно (так уже и в античных текстах): ведь совершено это злодеяние под знаком проклятия, назначенного богами, даже по их приказанию, но вместе с тем расценивается как преступление. Но, во всяком случае, должно произойти искупление и исцеление виновного, кого безжалостно преследуют эринии, богини мести. У Гёте проблема вины отступает на задний план перед не менее сложной проблемой, а именно: каким образом человек, убивший собственную мать, оказывается в состоянии смириться с происшедшим. Абсурден мир, в котором преступление представляется заповеданным и одновременно оно вызывает духов мщения; в котором деяние одновременно и оправдывается, и осуждается. Значит, нельзя больше избавляющему божественному началу одному лишь передоверять искупление вины и исцеление героя.
Орест у Гёте страдает, доходя до безумия, из-за внутреннего натиска фурий, и все же в конце третьего акта, обращаясь к Ифигении, он способен возвестить:
Проклятье миновало — вижу сам.
Чу! Эвменид ужасная толпа
Спустилась в ад, и кованая дверь
Захлопнулась, вдали прогрохотав!
С земли восходит благовонный пар
И манит вдаль, ожившего, меня,
И к радостям и подвигам взывает.
(Перевод Н. Вильмонта — 5, 178)
Последовательно переживая страшные воспоминания, охваченный видениями, Орест дошел до этого состояния успокоения в присутствии сестры своей, Ифигении. Приступ крайнего отчаяния, вызвавшего желание умереть как единственно возможное избавление, сменяется у него, пока он, упавший в изнеможении, приходит в себя, видением: он видит весь род Атридов в Аиде, где все наконец соединились, примиренные: «Мы все раздор забудем здесь!» Лишь предок их, Тантал, кого изначально поразило проклятье, остается исключенным из этого круга. Обнадеженный этим видением возможного успокоения, еще только, правда, предвкушая свое появление среди родных, в царстве мертвых, где он вскоре появится новым гостем, Орест, которого должны были принести в жертву, обращается к Ифигении: «Дай в первый раз в твоих объятьях чистых / Незамутненной радости отведать!» (5, 177). А непосредственно перед строкой «Проклятье миновало — вижу сам» он еще раз молит богов: «О, дайте мне в объятиях сестры / И на груди у друга дорогого / Священным счастьем вдосталь насладиться!» (5, 178). В монологе, которым открывается следующее, четвертое действие, Ифигения заверяет, что не хотела выпускать из своих рук Ореста. В пьесе ничто из этого не было зримо представлено; решающий этап исцеления Ореста, обретение покоя в объятьях сестры, не показан вовсе. Лишь в «антракте» между третьим и четвертым действиями могло произойти то, о чем герои пьесы лишь говорят. «Знай, брат твой исцелен!» (5, 185) — вот что может в конце концов выкрикнуть счастливый Пилад.
Представляется, что гётевский Орест был исцелен тогда и — в особых рамках происходящего в том абсурдном мире — также в достаточной мере понес кару и искупил вину, как только он вновь пережил свое чудовищное преступление, взял вину на себя и оказался в очищающей близости от сестры своей, которая еще не затронута всеми извращениями, поражавшими род Атридов из поколения в поколение, которая стремится сохранить свою чистоту. Не боги помогают здесь, и искупление вины не связывается более с доставкой в Грецию культовой статуи. Правда, часто идет речь о богах, точнее, об истолковании их советов и речений оракула, однако сами боги так и не появляются перед зрителем. В пьесе искупление вины и исцеление совершается благодаря людям — и тем, кто (как Ифигения) желают освободиться от рокового проклятья, поразившего род Атридов (которое, возможно, олицетворяет еще и такие религиозные представления, как наследственный грех, бывшие для просвещенного XVIII века уже пережитком прошлого), и другим, кто (как Орест) по крайней мере внутренним взором осознали, что умиротворение, гармония в принципе достижимы. Само исцеление Ореста — действительно равнозначное чуду — свидетельствует всего лишь о том, что оно вообще возможно. В сравнении с этим соображением доказательство (которое несложно провести), что события в драме отнюдь не мотивированы достаточно последовательно, становится второстепенным. Интерпретаторы творчества Гёте не раз указывали на эти недостатки: ведь исцеление Ореста теперь вовсе не зависит от назначенного Аполлоном испытания — необходимости возвратить на родину сестру (или культовое изваяние), как то предполагается в легенде, а слова его «Я исцелен тобой, / Пречистая. В твоих руках схватила / Меня болезнь жестокими когтями / В последний раз […]» (5, 204) вообще не связаны с чем бы то ни было.
Но после того, как брат и сестра узнали друг друга, после исцеления Ореста положение Ифигении стало не легче, а гораздо запутаннее. Оно даже представляется безвыходным — если дочь Агамемнона не желает запятнать себя, взять на себя вину. Теперь она втянута в планы хитроумного Пилада, изобретающего, как им спастись бегством, и она не в силах остаться глуха к его предложениям. Ведь на карту поставлена жизнь ее брата и остальных греков. Теперь невозможно оставаться честной по отношению к Фоанту, который всегда проявлял к ней доброту и благородство. Ифигения не может не принять теперь решение, и она выбирает то, что в мире сложностей и хитросплетений разумно, нормально, то, что Пилад умеет столь многословно защитить: она выбирает хитрость и обман. Она не знает, как иначе не дать принести в жертву этих якобы чужеземцев, а для нее — самых близких людей. Когда обстоятельства заставляют ее лгать и лицемерить, изначальное проклятье богов начинает угрожать уже и ей самой. Значит, боги все же решили уничтожить ее и как личность, разрушить ее представления о морали. «Я подчинюсь ему [Пиладу и его плану]: грозит беда / Возлюбленному брату. Но — увы! — / Все больше я своей судьбы пугаюсь […]. Не снять с себя проклятья? Иль никак / Дом Тантала для жизни не воскреснет / Благословенной?» В этой ситуации, под давлением обстоятельств, в трудном положении, из которого уже не видно выхода, она вспоминает (впрочем, вполне логично) «песню парок, что они пропели / Над Танталом, поверженным во прах» (5, 191). Это гимн безграничной власти и произволу олимпийских богов:
Пусть люди боятся
Всесильных богов.
Владычить над миром
Они не устанут
И вечной десницей
Расправу творят.
(Перевод Н. Вильмонта — 5, 191)
Теперь Ифигения ощущает себя оставленной на произвол судьбы, отвергнутой, низринутой в безысходность, и она страшится, что при таком дурном повороте в ее судьбе в ней может дать всходы древняя ненависть потомков Тантала к олимпийским богам. «Спасите же меня» / И образ ваш в груди многострадальной!» (5, 191). Уверовать в доброту богов она теперь способна лишь в случае, если целой и невредимой, не утратив внутренней гармонии, сможет выйти из этого конфликта. И это ей удается — но не благодаря вмешательству богов, а потому лишь, что она сама, абсолютно самостоятельно, решается на «неслыханное»: презреть ложь и обман и сделать ставку только на правдивость. И «песню парок» она продолжила многозначной строфой собственного сочинения: