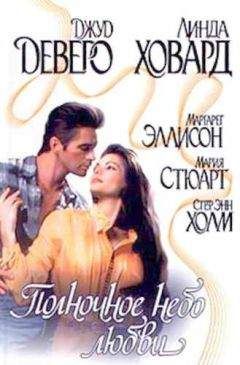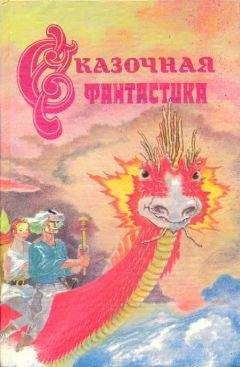Захар Прилепин - Леонид Леонов. "Игра его была огромна"
Распутин тоже знал, что так, через одну фразу, можно сразу вскрыть человека, и у него примеры подобной наблюдательности рассыпаны повсюду.
Чего у Распутина нет — так этого леоновского тайного едва ли не конфликта с Богом. У Распутина вообще Бога в художественных текстах нет, — он оперирует другим понятием, это — Судьба.
И если в представлении Леонова, по крайней мере позднего, человеческую судьбу нужно таскать с собой, как «осклизлое бревно», то распутинская Судьба, при всём ужасе, выпадающем иной раз на человеческую долю, — всё равно до последней минуты тёплая, обещающая тебе приют. По крайней мере пока ты человек, а не волк.
И здесь мы выходим к самому серьёзному сближению прозы Распутина и сочинений Леонова.
Никто, кажется, ещё не заметил прямой связи между упомянутой книгой «Живи и помни» и несколькими леоновскими текстами.
Во-первых, здесь наличествует одна, не самая важная, даже второстепенная, но всё-таки схожая коллизия: и у Леонова в «Барсуках», и у Распутина в «Живи и помни» героиню пытается соблазнить прибывший в деревню уполномоченный. При сходстве сюжета, стоит отметить разницу меж леоновским и распутинским восприятием женщины. Леоновская героиня поддаётся соблазну, распутинская — нет.
У Распутина вообще, от первой до последней повести, едва ли не вся земля Русь держится на женщине. Скажем, сравним главных героинь упомянутых выше повестей «Пожар» и «Саранча». У Распутина жена того мужика, что идёт навстречу катастрофе, — неотъемлемая часть его, воистину ребро. Леонов же, напротив, пародирует в «Саранче» Достоевскую Настасью Филипповну: развенчивая её и буквально раздевая в финале повести донага — притом лишая эту наготу всякой женской силы, привлекательности, тайны.
Надо сказать, у Леонова во всех его сочинениях нет ни одного счастливого и нежно любимого им женского образа, кроме разве что Дуни в «Пирамиде», которая, правду сказать, не совсем в земном рассудке пребывает. (Достаточно ходульный женский образ в пьесе «Лёнушка» не в счёт.)
Иногда встречаются у Леонова чудесные девушки — но они почти ещё дети; и бывают старухи, умудрённые многотрудной жизнью.
Молодые же, если не в пороке живут, то как минимум несчастны: например, эмигрантка Женя в повести «Evgenia Ivanovna», циркачка Таня в «Воре» и молодая советская женщина Варя в «Русском лесе» (и все три, в конце концов, погибают).
А чаще всего судьба женщин и несчастна, и порочна одновременно: от разрывающейся меж двумя «барсуками» главной героини первого леоновского романа, к ещё одной, гнилью подёрнутой реинкарнации Настасьи Филипповны — Маньки-Вьюги в «Воре», вплоть до Лизы из «Дороги на Океан», сделавшей в припадке истерики аборт от обожающего её мужа. Череду подобных характеров продолжает жена Вихрова, сбежавшая от него вместе с ребёнком. Женщина она, может, и честная, но сердечно какая-то холодная. Завершает этот скорбный ряд циничная и фригидная Юлия Бамбаласки из «Пирамиды».
Во взгляде на женщин, повторимся, Леонова и Распутина ничего не роднит; да и, кажется, Валентин Григорьевич даже не мог заподозрить учителя в таком сумеречном воззрении на слабый пол. Но мы-то уже знаем, что Леонид Максимович и на мужчину смотрел не более радужно. И тут-то они с Распутиным сошлись.
Главная метафора книги «Живи и помни», конечно, леоновская: мужчина, в сути своей превратившийся в волка: предавший и Отечество, и любовь к женщине, и в волчьем обличье вернувшийся к своей любимой.
Книга «Живи и помни» могла бы называться «Волк», когда бы уже не было такой пьесы у Леонова, с той же метаморфозой, когда сильный, смелый, русский мужик становится зверем.
У Распутина дезертировавший с фронта солдат напрямую волком не называется нигде. Но книга начинается с того, как он, живущий в заброшенной зимовейке, отпугивая волков, научился страшно выть. Кульминация «Живи и помни» — тот момент, когда дезертир гонит по лесу корову с телком и, уведя их подальше от людей, телка забивает. Так он превращается в волка, ворующего беззащитную скотину у людей. И кровь его, ставшая волчьей, легко уносит его из зимовейки, когда за ним начинается охота. Ничто в нём человеческого уже не остаётся, и он ни единой жилкой не чувствует, что беременная его ребёнком женщина, Настёна, топится в реке, не вынеся своей судьбы, своего невольного предательства и обрушившегося на неё презрения мира.
Лишь здесь сходятся Леонов и Распутин в своём, как нам кажется, нечеловечески жёстком взгляде на женщину, пошедшую за мужчиной и невольно предавшую родину.
У Распутина в «Живи и помни» героиня гибнет — но за десять лет до публикации распутинской повести у Леонова в повести «Evgenia Ivanovna» происходит, по сути, та же трагедия: женщина, повинная только в том, что пошла за своим мужчиною, умирает в финале, во время родов. И даже наличие плода не спасает ни распутинскую Настёну, ни леоновскую Женю.
Так и хочется воскликнуть, вскинув руки: разве это справедливо?!
…Даже если виноваты в их погибели дурные и слабые мужчины…
* * *На исходе 1960-х, в начале 1970-х годов Леонов узнаёт о двух писателях, которые впоследствии станут в известном смысле антиподами. Мы говорим о Юрии Бондареве и Александре Солженицыне.
В сегодняшнем нашем восприятии два этих имени сложно-сочитаемы, но в течение как минимум трёх десятилетий оба вышеназванных человека вполне могли соперничать за звание первого русского писателя.
Бондарев был не просто известен — а именно что популярен; и не только у нас, но и за рубежом, где с 1958 по 1980 год опубликовано 130 наименований его книг.
На наш, весьма субъективный взгляд, общий уровень прозы (и тем более публицистики) Солженицына выше, чем общий уровень сочинений Бондарева. Но в лучших своих вещах Бондарев берёт высоты, недоступные Солженицыну — писателю очень сильному, но лишённому той непостижимой музыкальности, которая является основой всякой великой прозы.
При чтении Солженицына всё время остаётся ощущение огромного мастерства — и при этом сделанности, рукотворности текста, отсутствия в нём тайны.
Когда, напротив, читаешь военные вещи Бондарева, ощущаешь в невозможной какой-то полноте огромную и страшную музыку мира. Бондарев — один из лучших мировых баталистов; сражение, скажем, в романе «Горячий снег» сделано безусловно великим художником.
Сказав выше «военные вещи Бондарева», мы не оговорились. Чтение позднего, «мирного» Бондарева оставляет неистребимое ощущение, что книги его написаны не одним, а двумя людьми. Возьмём, к примеру, «Берег», где первую и третью «мирные» части читать, признаться, трудно: по причине чрезмерной литературности самого вещества прозы, удивительного какого-то обилия неточных эпитетов и описания непродуманных эмоций. Но вторая, военная часть «Берега» опять удивительно хороша — прозы такого уровня в России очень мало.