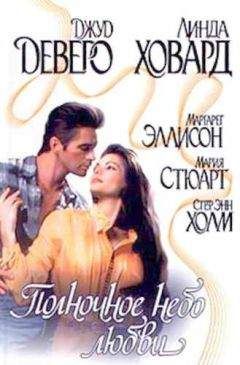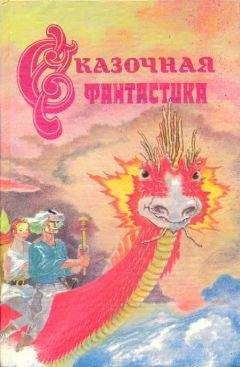Захар Прилепин - Леонид Леонов. "Игра его была огромна"
Коллизия эта ровно противоположна описанной ранее в «Перевале»: там отчаявшегося, сбежавшего из дома ребёнка как раз берут на плот артельщики, чем возвращают пацану веру в доброту мира и человека.
В «Стародубе» за отправляемого на верную смерть мальца вступается местный охотник Фаефан и берёт его жить к себе. Пацану дают прозвание Култыш, вскоре они перебираются с Фаефаном вдвоём в его охотничью сторожку, там и живут, в село наведываясь лишь изредка.
Много лет спустя случится неурожай, селяне обвинят во всём уже постаревшего Култыша и снова попытаются его убить. На этот раз спасёт Култыша женщина, которую он любил. Разочарованный, Култыш уйдёт из села уже навсегда.
Посыл «Стародуба» очевиден: мир чудовищен, люди звероподобны, и лучше дела с ними никогда не иметь — добром тут тебе никто не отплатит.
Астафьева так и будет всю жизнь раскачивать от восторга пред внезапно раскрывшимся миром, как в «Перевале», до ненависти к нему, как в «Стародубе». Писать он будет с годами всё лучше и лучше, но сама амплитуда его страстного отношения к жизни и к человеку заложена была уже в двух первых повестях.
Посвящение Леонову конечно же было неслучайным. Созвучна не столько тема (хотя Леонов никогда столь дидактично прямолинеен не был), сколько стилистика. «Стародуб», будем называть вещи своими именами, — повесть подражательная, и повлияла в данном случае на Астафьева ранняя проза Леонова, а именно рассказ «Гибель Егорушки».
Они и начинаются почти одинаково: с картины затерянной скалистой местности, самый вид которой уже наводит сердечную тоску.
«На крутом лобастом мысу, будто вытряхнутые из кузова, рассыпались два десятка изб, крытых колотым тёсом и еловым корьём, — это кержацкое село Вырубы. <…> Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом». Это Астафьев.
А вот Леонов: «Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой, Нюньюг-остров, и каб был он в широту поболе семи четвертей, — быть бы уж беспременно посёлку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угрёвой случайной скалы».
У Леонова, как у Астафьева позже, сюжет строится на появлении человека, вынесенного на берег водой. Только у Астафьева пришедший к людям мог бы всех спасти — но люди его не приняли, а у Леонова всё ровно наоборот: монах Агапий, подобранный на берегу моря рыбаком Егорушкой, приносит его семье погибель ребёнка, а душу человеческую заражает всё тем же безвыходным отчаянием.
…Другая тема, которой стоило бы всерьёз заняться, — это взаимоотношения Леонова и Астафьева с их отцами.
Про отца Леонида Леонова мы уже не раз говорили; отец Астафьева — повод для не менее сложного разговора. Отсидевший, вечно пьяный, слабый, виновный в заброшенности и страшном сиротстве своего сына — он был презираем Астафьевым. Об этом сказано Астафьевым уже в подпитанном собственной печальной биографией «Перевале», это нет-нет да и проявляется в других его сочинениях; прямой речью порицает родителя Астафьев в «Затесях». Виктор Петрович отца не любил и в несчастном своём детстве винил в первую очередь его. Отсюда, к слову, сердечное почтение Астафьева к старикам (и к Леонову в первую очередь), от которых он ждал получить тепла и благословения, какого недополучил в детстве. Так Леонов в своё время относился к Сабашникову, к Остроухову, к Самарину…
Но тут таится роковое отличие: оставленный отцом и выросший без матери, Астафьев постепенно, шаг за шагом пришёл к неприятию не только человека как такового, но и Отечества вообще, которое, на его суровый взгляд, столь же и даже более бессердечно, как несчастный родитель Виктора Петровича.
Здесь и кроется зазор меж мировосприятием Леонова и Астафьева. Оба печалились об исходе русского народа, оба грустно взирали на людской путь — но в итоге у Астафьева больше раздражения и даже озлобления по этому поводу, а у Леонова — только печаль и сожаление.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить некоторые авторские отступления в «Пирамиде», с одной стороны, и в «Проклятых и убитых» — с другой.
…В дни их ухода из этого мира различие это проявилось особенно остро.
Астафьев в предсмертной записке напишет: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание».
А к Леонову незадолго до смерти заходила младшая дочь, и он еле слышно повторял: «Какой народ был… какой народ, Боже мой — русские… И какая трагическая судьба…»
* * *Наследовать сложносочинённой, а иногда и трудноподъёмной леоновской фразе более других пытался Пётр Проскурин — но получалось у него это менее других.
В его случае фраза становится трудноподъёмной не для читателя (как порой у Леонова), а для самого писателя, который не справляется с выражаемой им мыслью.
Псевдоклассическое многословие иногда заметно и в позднем Юрии Бондареве (особенно в «Мгновениях», и во многих романах о мирной жизни), но в случае Проскурина достигает своего с обратным знаком совершенства. Пётр Лукич подзабыл леоновский урок о том, что первая фраза произведения задаёт камертон всему тексту. А чего мы можем ждать от книги, которая начинается так: «Тревожный знакомый свет прорезался неровным, дрожащим бликом и исчез, чтобы снова появиться через мгновение, и она даже во сне потянулась на этот свет, это было предупреждение, предчувствие счастья, одного из тех немногих мгновений, таких редких в её предыдущей жизни, где-то в самых отдалённых глубинах её существа уже копилась таинственная, как подземная река, музыка, и, как всегда, она начиналась с одной и той же мучительно рвущейся ноты».
Слишком много всего, в равной степени и многозначного и бессмысленного: облик, подземная река, предчувствие, предупреждение, глубины, музыка, нота… Это первая фраза поздней повести Проскурина «Чёрные птицы».
У Леонова есть столь же сложно построенные фразы — но там почти всегда каждое слово взвешено на точных весах, даром, что не всякий обладает необходимым слухом для того, чтобы это услышать.
Впрочем, в некоторых своих вещах Проскурин был крепким мастером.
Самое лучшее, на наш взгляд, сочинение Петра Проскурина — автобиографическая вещь, опубликованная уже после его смерти, «Порог любви». Там была замечательно хорошо уловлена интонация — спокойная, сердечная и мудрая. Если бы не пространные рассуждения о литературе, книга была бы совсем хороша. Однако именно в «Пороге любви» Проскурин признался в своей читательской любви к Леонову, и больше ни об одном писателе в своей, по сути, итоговой книге он не говорит с таким почтением.