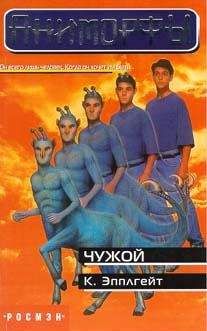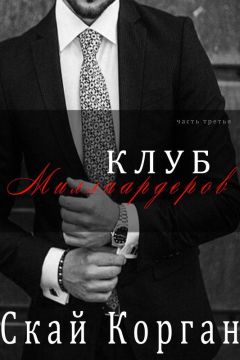Максим Чертанов - Дюма
Партенопейская республика, эта власть «белых воротничков», была организована плохо, денег нет, армии нет, держались на французских штыках; меж тем бежавшие в Палермо роялисты направили кардинала Фабрицио Руффо организовать контрреволюцию. Он собрал так называемую «Армию веры» из крестьян и осужденных уголовников: «Крестьяне неаполитанских провинций всегда были независимы. Вот почему по призыву духовенства, выступившего во имя Господа, по призыву короля, выступившего во имя династии, особенно же по призыву ненависти, выступившей во имя стяжательства, грабежа и убийства, поднялась вся страна. Каждый вооружился ружьем, топором, ножом и начал воевать, не ставя перед собою иной цели, кроме разрушения, не рассчитывая ни на что иное, кроме грабежа, следуя за своим начальником и не подчиняясь ему, подражая его примеру, а не слушаясь его приказаний». Неаполитанские лаццарони начали резать республиканцев, французы ушли — у них были свои проблемы, а Руффо при поддержке эскадры адмирала Ушакова двинулся на Неаполь; 13 июня после отчаянной битвы он взял город и в течение недели его отряды грабили и жгли все подряд. Сам Руффо был не лишен благородства: он обещал республиканцам выпустить их из города и, как следует из его переписки с Нельсоном, намеревался сдержать слово, но Нельсон захватил суда республиканцев и передал Фердинанду. Тысячи человек казнили без суда, по доносам, десятки тысяч посадили или выслали; репрессии прекратил лишь Наполеон I в 1806 году, посадив на трон своего человека, но в 1815-м Фердинанд вернулся.
Фердинанд не щадил и женщин. Дюма тронула судьба маркизы Элеоноры Фонсеки, поэта и журналиста: «Жестокость, изощренная в своей непристойности: предназначенная ей виселица оказалась вдвое выше других. Перед казнью, надеясь, что она попросит о помиловании, Спецьяле обращается к ней: „Говори, мне приказано исполнить любую твою просьбу“. „Тогда распорядись дать мне панталоны“, — отвечает она». Другая история: за замужней аристократкой Луизой Сан-Феличе ухаживали республиканец и роялист, второй сообщил ей о контрреволюционном заговоре, она, тревожась за судьбу первого, ему рассказала, заговорщиков арестовали, ее поступок называли «подвигом»; после падения республики ее приговорили к казни. Все это просилось в роман. Но Дюма для него пока не созрел. Он продолжал печатать в «Монте-Кристо» переводы с русского, серию некрологов «Мертвые уходят быстро», издал сборник воспоминаний «Всякая всячина», переделывал (безуспешно) «Федру» Расина. В сентябре он обнаружил, что материалов к «Неаполитанским Бурбонам» не хватает, поехал в Италию, отправил журналисту Гюставу Клодену 10 писем о политике (вероятно, они были где-то опубликованы, но это не установлено). Марко Мингетти, министр внутренних дел при Кавуре и сменившем его Беттино Рикасоли, предлагал Италии стать не единым государством, а федерацией, и был отправлен в отставку. Дюма его проект одобрял: «единое королевство не сделает итальянцев единой нацией», не нужно объединять прогрессивный Пьемонт с отсталой, не готовой к демократии Сицилией. С 7 сентября он был в Неаполе и угодил в политическую дуэль. Журналист-республиканец Петручелли написал, что «время Гарибальди прошло, мы ненавидим идолопоклонство и фетишизм, и мы говорим: хватит», другой республиканец, Никотера, вызвал его на дуэль, Петручелли выбрал шпаги, Никотера протестовал (рука ранена), просил Дюма быть секундантом, тот не согласился — «я не желал даже прикасаться к оружию, которым республиканцы убивают друг друга», — но на дуэли присутствовал, слава богу, противники остались живы.
В ноябре, сделав нужные выписки из архива, Дюма вернулся в Париж, завершил «Неаполитанских Бурбонов» (во Франции книга вышла лишь в 2011 году под названием «Две революции») и взялся за давно задуманный роман о бегстве Людовика XVI — «Волонтер 92 года» (публикация началась в «Монте-Кристо» 24 апреля). Он написан в виде воспоминаний ветерана наполеоновской армии Рене Брессона — по словам Дюма, такой человек существовал, но подтверждения этому найти не удалось. Юного Брессона наставляет его воспитатель: «Когда-нибудь ты узнаешь, что начиная с Прометея, прикованного к скале за то, что он похитил с небес огонь… всем благодетелям человечества платили за их добрые дела ненавистью королей или неблагодарностью народов. Слепой Гомер питался подаянием; Сократ выпил цикуту; Христа распяли на кресте; Данте изгнали; Риенцо[26] убили; Жанну д’Арк сожгли на площади в Руане; Савонаролу — перед собором Святого Марка; Христофор Колумб вышел из тюрьмы лишь для того, чтобы умереть от горя…» Он говорил, конечно, о собственной обиде…
В 1790 году Брессон приезжает в Париж, встречает в политических клубах Марата и Робеспьера; первый, «жаба», Дюма уже наскучил, он сосредоточился на втором: «Его узкая, притворно-добродетельная и брезгливая физиономия; его глаза с дикими зрачками — из них между конвульсивно мигающими веками струились желчные лучи, казалось, жалящие вас; его длинный, бледный, строгий рот с тонкими губами; его голос, в то время хриплый на низких нотах, резкий — на высоких, чем-то напоминающий визг гиены и шакала… это был Робеспьер — воплощенная революция с ее непреклонной честностью, наивной жаждой крови и жестокой, чистой совестью». Но так говорит простодушный Брессон, а Дюма вновь доказывает, что Робеспьер был не революционером, а предприимчивым властолюбцем: «Даже в 1791 году он все еще не осмеливался объявить себя республиканцем… он утверждал… что „республика“ и „монархия“ представляют собой лишенные смысла слова, что свободным можно быть при короле, а рабом — при президенте или протекторе; он привел имена Суллы и Кромвеля, однако забыл или не посмел упомянуть Вашингтона». О «добрых королях»: вот Людовик добр, но «читатели согласятся, что для гражданина очень ненадежная гарантия, если каприз отрубить ему голову придет такому доброму королю. В начале своего правления Калигула и Нерон тоже были такими добрыми…». Раньше о предательстве Людовика Дюма писал как о версии, теперь — как о факте. И все же нашел слова в его защиту: с точки зрения монархии семья короля — не его подданные, а его заграничные родственники, к которым он имел право обращаться за помощью.
Весной Дюма занимался делами Мари, свидетельствовал в суде, что она не вела общего хозяйства с мужем и посему может жить самостоятельно, иск был отклонен, подали апелляцию — кажется, вся жизнь семьи Дюма проходила в судах. Мари попробовала писать, отец пришел в восторг, называл гением. С сыном они, напротив, отдалились друг от друга. Александр-младший — Жорж Санд, 8 марта 1862 года: «Я нашел его более шумным, чем прежде. Дай ему Бог еще долго оставаться таким, но сомневаюсь, что это возможно… Пытаться руководить им, в особенности теперь, бесполезно. Это то, что происходит с человеком, которому всегда везло и который упал с пятого этажа; либо он останется невредим, либо убьется на месте. Если бы можно было поставить этот локомотив в момент его отправления на рельсы и заставить пересечь жизнь по прямой линии, один Бог знает, сколько бы он потянул за собою великих и полезных для человечества идей… Посмотрим, что будет, а пока я очень хотел бы иметь не столь шумного отца, у которого было бы больше времени для меня… и для самого себя». (Григорович: «Несмотря на свои шестьдесят лет, он не может успокоиться; он вечно чего-то ищет, чего-то ждет, остановится на каком-нибудь несбыточном, фантастическом проекте, говорит о нем и радуется ему, как ребенок, и вдруг, совершенно неожиданно, перестает о нем думать и даже сердится, когда ему об этом напоминают…»)