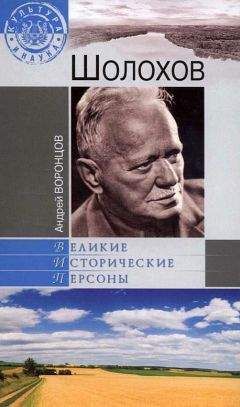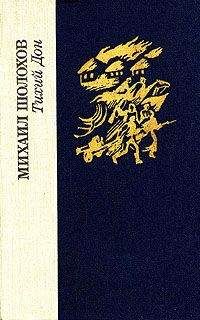Валентин Осипов - Шолохов
И еще: «Вот Лукин, как он описывает свое возвращение из плена? Попробуйте сгладить его трагедию. У некоторых писателей создается неправильное представление о писательском труде. Хотят, чтобы герои были описаны, словно бы они все время навытяжку стоят перед писательским взором… Война — это всегда трагедия для народа, а тем более для отдельных людей… Люди обретают себя в подвигах, но подвиги эти бывают разные… О войне нельзя писать походя, слишком все это ответственно…»
Шолохов, гордясь подвигом своего народа, не искал лубочных героев. Вот с каким обобщением вспоминал он первые — самые трагические! — дни войны в одной своей статье: «Любопытные документы остались от той эпохи. Передо мною лежит пожелтевшая от времени американская газета „Вашингтон пост“, в которой с душевным мужским волнением написано: „Дрожишь при одной мысли о том, что могло бы произойти, если бы Красная Армия рухнула под напором наступающих германских войск или если бы русский народ был менее мужественным и неустрашимым…“»
Бои за Давыдова
Абрам Гурвич, критик, литературовед, тоже попал в орбиту шолоховского внимания.
Писатель едва ли мог забыть его. Еще бы: при обсуждении в Комитете по Сталинским премиям «Тихого Дона» этот Гурвич вчинял ему идейные ошибки. Помнил и другое: этот критик стал при Сталине персонажем партпостановлений как «безродный космополит». В итоге попал под карающую десницу — Маленков дал указание: «Не допускать на пушечный выстрел к святому делу советской печати». Так и прозябал без права на критическое перо.
Выходит вторая книга «Поднятой целины». Партийная критика принялась прежде всего пропагандировать свой взгляд на Давыдова: это-де безупречный образец для подражаний! Сердечные увлечения? Не обращать внимания! Кто-то из партбонз даже с требованием — кое-что подредактировать:
— Ай-ай-ай, как это ваш Давыдов с Лушкой встречается в степи?
— А где же им еще встречаться? — полюбопытствовал Шолохов.
— Да неудобно как-то читать такое…
— А что делать, когда у них удобных мест не было?..
Вступился за Давыдова «безродный космополит» Гурвич. Написал огромный критико-литературоведческий очерк «Прокрустово ложе». Правда, лестью не кадил автору. Позволил себе такую оценку романа: «Разнокачественность». Взялся в этом своем очерке и за «любовную» тему: «Читателю предлагается расчленить, разорвать цельную личность Давыдова на две части, чтобы одну вышвырнуть как негодную и тем самым поднять другую. Единого и неделимого Давыдова делят на больного и здорового, на постоянного и временного, на главного и случайного. При этом утверждается, что если читатель не проникается к Давыдову неприязнью, то только потому, что главное для него не личная — теневая — сторона жизни героя, а его светлая деятельность как „коммуниста, вожака, организатора, учителя жизни“. Давыдов же, как и всякий живой человек, существует только в органическом слиянии решительно всех движений ума и тела своего…»
Написал очерк, а кто печатать будет идеологического изгоя? Никто не решился. Тогда — в стол.
Умер. Уже поутихли былые страсти с изничтожением «космополитов». Да время ханжества в оценках «Целины» не проходило. Друг Гурвича, писатель и критик Александр Борщаговский, сам в прошлом «безродный», вознамерился издать посмертный сборник его избранных работ. Не получалось уговорить издателей. Нужно заступничество кого-либо из влиятельных в обществе деятелей. У него мелькнула шальная мысль — поможет Шолохов: очерк-то о «Целине».
Чем больше рассуждал, тем больше сомнений: можно ли члену ЦК вступаться за политизгоев, да и забыл ли вёшенец, как Гурвич в переизбытке конъюнктурщины ему напакостил? Еще опасение: а примет ли писатель такую оценку Давыдова — против давно привычных догм? Вдруг нравится вбиваемая в умы официальная трактовка этого персонажа?
Рискнул: «Мне ничего не оставалось, как писать Шолохову и запаковать очерк Гурвича для отправки в Вёшенскую. Издательство и думать не хотело о публикации „Прокрустова ложа“. Я послал рукопись в конце ноября 1965 года. Долго не приходил ответ, надежды таяли. А в конце января 1966 года пришло короткое, писанное от руки письмо…»
И он показал мне это письмо. На бумаге в клеточку десять быстрых, но четко писанных строчек: «Дорогой Александр Михайлович! Прошу прощения за промедление с ответом, но так сложились обстоятельства. Статью покойного Гурвича о „Поднятой целине“ безусловно надо печатать. Она еще послужит свою службу, но чтобы она заставила ханжей мыслить иначе — жестоко сомневаюсь! Желаю Вам всего доброго! М. Шолохов. 24.1.66.».
«Высокие интересы литературы, — присовокупил Борщаговский, — оказались для Шолохова решающими».
Книга вышла и была отослана в Вёшенскую. Оттуда — телеграмма: «Борщаговскому. Получил тчк Спасибо тчк Шолохов».
Дополнение. Однажды в интервью Шолохов заявил: «Мы служим идее, а не лично себе…» И тут же высказался о том, что стало незаметно разъедать общество: о блате, кумовстве, коррупции: «Представь, чтобы Толстой пришел в редакцию „Нива“ пристраивать рукопись своего сына. Или Рахманинов просил бы Шаляпина дать своей племяннице возможность петь с ним в „Севильском цирюльнике“. Или, еще лучше, Менделеев основал бы институт и посадил туда директором своего сына… Не улыбайся. Над этим стоит подумать…»
Обидно, что этот совет остался втуне и исцеление — до сих пор! — не пришло. Давно сказано: нет пророка в своем отечестве.
В этом же интервью очень строго отозвался об «отщепенцах» — диссидентах: «С такими надо бы построже. Известно, паршивая овца заведется — все стадо испортит».
Надо знать и об этом. Одни ругают его за ненависть к тогдашним политическим инакомыслящим. Другие хвалят. Но ни разу не прочитал спокойных рассуждений: что же не удовлетворяло в бунтарских взглядах диссидентов Шолохова, автора Григория Мелехова, самого главного в советской литературе бунтаря.
Освобождение Мелехова
Все минется, одна правда останется…
Из анекдотов 1930-х годов. Однажды заведующий Отделом агитации ЦК Алексей Стецкий стал критиковать Шолохова за то, что его главный герой — Мелехов — настоящая контра. Потом сказал:
— Ты, Шолохов, не отмалчивайся.
— Ответить вам как члену ЦК или лично?
— Лично.
Шолохов подошел и дал ему пощечину. На следующий день позвонил Поскребышев:
— Товарища Сталина интересует: правда ли, что вы ответили на критику пощечиной?