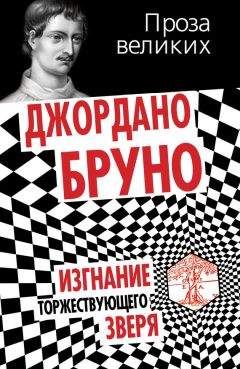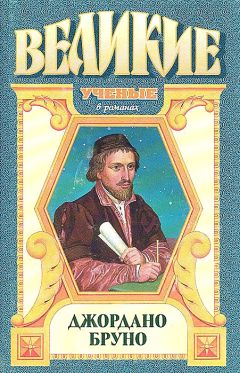Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
— Где фарфоровый сервиз? — загремел Жан, едва окинул взглядом комнату: прежде ему доводилось выносить из дома вещи на продажу, теперь супружеские роли как бы переменились. — Который мы в Дьеппе купили?!
— Продала, — терпеливо и бесстрастно отвечала жена. — Он нам не нужен.
— Сразу стал не нужен?! А прежде молилась на него, пылинки с него сдувала?!. Уехать собралась?! А мне ни слова?!. Что происходит, в конце концов?.. — Он был трезв в этот день и ждал решительного объяснения.
— Я говорила уже, — только и сказала Жоржетта.
— Что ты говорила?! И когда?!. С тобой же как со стеной: молчишь как рыба — ни привета ни ответа, от одного этого спиться можно! — Жоржетта призадумалась над тем, что он сказал, но всерьез его слова не приняла — продолжила свое дело: раскладывала, что взять с собой, что оставить. — Без меня ехать собрались?
— Почему без тебя? — Жоржетта с чувством отставила шкатулку: выбрасывать из нее было нечего. — Поедем поглядим.
— А для этого все продать? А потом покупать, если не понравится?
Жоржетта помешкала.
— Мебель всегда купить можно.
— И мебель продать?! — Жан схватился за стоящий рядом стул, будто оберегая его от посягательств.
— А ты хочешь платить за квартиру, пока мы там будем?
Жан хотел возразить, что мебель можно было бы отдать кому-нибудь на хранение, но подумал потом, сколько хлопот это будет стоить, и главное — по ее твердому взгляду, направленному на него искоса и исподлобья, понял, что она уже все для себя решила и теперь пришел его черед думать, едет он с ней или остается, — один в стране, где у него, хотя она и была ему родиной, уже никаких зацепок, кроме жены, дочери и пенсии по увечью, не было.
Он подумал, подумал и согласился: поднявшаяся волна способна унести и камень — не то что щепку, которой он в последнее время себя чувствовал. Он знал, что, оставшись один, без поддержки, не проживет и года: сопьется и умрет в какой-нибудь канаве, — это и решило его сомнения. Впрочем, он остался верен себе и свое согласие на выезд связал со множеством оговорок: его везли будто бы почти насильно — он известил об этом родных, съехавшихся провожать семью, и своих приятелей, которые, узнав о его отъезде, прониклись к нему прежними чувствами, ни к чему теперь их не обязывавшими: не надо было ни слушать его пьяные бредни, ни доставлять домой, держа под руки, а иной раз и за ноги. Жоржетта слушала его пророчества и мрачнела и бледнела: не потому, что боялась Москвы, а потому что чувствовала, что подобные сцены будут повторяться и у дочери. Но она ни в чем ему не уступала: раз решившись на что-нибдуь, она двигалась вперед с почти механическим упрямством.
Было еще одно лицо, которое больше всего зависело от принимаемого ими решения, но его меньше всего слушали, — четырнадцатилетняя Жанна: ее вырывали из родной почвы в самом хрупком и еще не сложившемся возрасте. Она ехать не хотела и каждый день плакала в подушку, но ее не спрашивали: дети не имели права голоса.
Пока они все так, каждый на свой лад, готовились к отъезду, Рене училась в школе разведчиков. К ней, пока это было еще возможно, ходили преподаватели: ее готовили к нелегальной работе за рубежом, и занятия в школе, где могли быть (а может, уже и были) подставные лица, были нежелательны. Один преподаватель учил ее тактике, второй стратегии: неизвестно зачем, но она исправно учила схемы сражений — от выдвижных клиньев Александра Македонского до штурма современной эшелонированной обороны. Был еще и третий: преподающий конспирацию, лысый методичный субъект — этот задевал ее всего больше и вызывал постоянное желание спорить. Он был большой фантазер и понуждал к тому же свою ученицу.
— Представьте себе, — он понижал голос, чтоб соседка-полька не слышала его заговорщического шопота, — что вам сели на хвост…
Подобные предположения почему-то возмущали ее:
— Это плохо, что на хвост сели! Надо все бросать и бежать куда подальше.
Он не спорил, но добивался от нее иного:
— Никто не говорит, что хорошо, но что именно вы будете делать? Ваши действия?
Она глядела на него непонятливо, разражалась вопросами:
— Когда это было? В какое время года? Где: на улице или в театре? Миллион вопросов возникает!
— Предположим, на улице.
Она не слушала его, а продолжала свое:
— Опять тысяча вариантов! Только жизнь покажет и подскажет — зачем вперед гадать? Это как язык по книге учить: можно годами читать и не научиться, а в страну приедешь — поневоле заговоришь. — Она думала в эту минуту, как будут объясняться в Москве ее родичи — когда выйдут из ее гостеприимного дома на гудящую народом улицу.
— Вы все так! — не унимался, а, напротив, возбуждался он, уподобляя ее прочим, что ей, как и всем другим, было неприятно. — Жизнь подскажет! Да ничего она не подскажет, если вы внутренне к этому не готовы. А для этого надо мысленно проигрывать типовые ситуации. Я повторяю: вам сели на хвост — ваши действия в этом случае. Иначе я вам зачета не поставлю! — Он повышал голос, и теперь его, наверно, слышала и полька: она знала дело и могла бы помочь в обсуждении, но ее не приглашали.
— Ну хорошо, — сдавалась Рене и напрягала — если не воображение, то память. — Если бы я увидела на улице слежку и если бы рядом остановился трамвай, если б было уже темно, а в трамвае полно людей и если б стояла ранняя весна, когда носят кто что, все разное: кто в пальто, кто в теплом костюме, а я была бы в каком-нибудь легком плащике… — у преподавателя голова шла кругом от этой бесконечной вводной экспозиции, но он упрямо ее слушал, — то в таком случае я вошла бы в трамвай, быстренько прошла от входа до выхода, постаралась держаться противоположной стороны, по дороге незаметно бы скинула или свернула плащ, вышла бы из трамвая, но сделала бы это спиной вперед, помогая выйти какой-нибудь старушке, а потом пошла бы с ней рука об руку дальше: будто с нею вошла и вышла… — Однажды она именно так ушла от слежки в Шанхае — она до сих пор не знала, была ли она настоящей или ей померещилась: может, она просто понравилась богатому китайцу, но он так строго смотрел на нее и с таким упорством преследовал, будто у него в кармане был ордер на ее задержание. (Позже, когда она узнала китайцев ближе, то стала склоняться к тому, что она все-таки приглянулась ему тогда, а строг он был потому, что китайцы именно так к женщинам и относятся, когда те им нравятся.) — Люди прежде всего смотрят на одежду, потом на обувь. Жалко было бы плащ, — заключила она, потому что в тот раз его обронила и потом действительно долго жалела. — Особенно дорогой, но что поделаешь?..