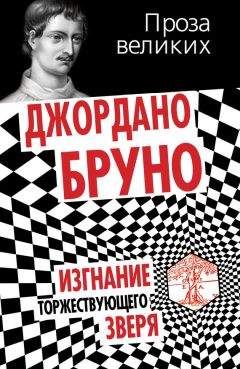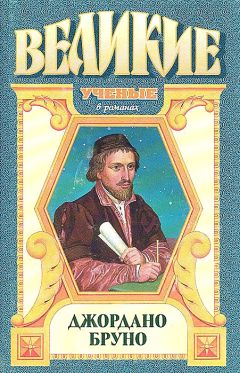Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
Утром смутьянов и драчунов не стало, их места заняли вполне приличные люди в выходных костюмах, извинявшиеся всякий раз, когда в ее присутствии меняли части туалета, — с ними стало и скучней и спокойнее. Поезд стучал на разъемах рельс, дышал гарью, оседавшей на белье, так что окно пришлось закрыть по общему согласию. Пассажиры были воспитанны и ненавязчивы — один только японец, помня услугу, которую оказал молодой даме в интересном положении, считал, что она в долгу перед ним, и в качестве компенсации спрашивал о всех географических точках, мимо которых они проезжали:
— А что это за речка? А что это за мостик?.. — хотел, видно, заучить все реки и мосты от Москвы до Владивостока…
В Москве ее встретил Федор Яковлевич Карин, начальник восточного агентурного отдела Управления. К ней относились по-прежнему с особой бережностью, вниманием, едва ли не почтительностью. Карин отвез ее к себе домой, потом на дачу — туда вызвали акушера. Врач уверил Рене, что все в порядке, что она должна родить нормального ребенка. Думала она теперь только о предстоящих родах и купила все необходимое для ребенка: то, что было приобретено, осталось в Китае. В частности, в Торгсине она выбрала красивую коляску, которая в ее воображении стала частью ее еще не родившегося детища. На даче началась родовая деятельность — ее отвезли в роддом на Солянке. Ребенок родился и не закричал. Она испугалась, стала требовать, чтобы сделали что-нибудь, а не стояли толпой у ее ног, — вместо ответа ей показали ручку новорожденной: с нее пластом слезала сморщенная кожица. Это было тем более ужасно, что ручка показалась ей до боли знакомой: такой была ладонь Якова и потом руки обоих сыновей ее. Она разрыдалась и потеряла самообладание. Ее выписали, потому что в остальном состояние ее было благополучно. По дороге домой она не могла успокоиться, плакала, а в доме Кариных произошло то, что добило ее окончательно. Войдя в прихожую, она увидела, что нет заранее приготовленной ею коляски, ожидавшей здесь своего маленького пассажира или пассажирку. В ответ на ее немедленный вопрос хозяйка тихо сказала ей, что ее продали, чтобы она не напоминала ей о ребенке. Это довершило удар: до нее теперь только дошла смерть ребенка, каким-то образом с этой коляской сроднившегося.
Затем у нее был психоз. Она ходила взад-вперед по комнате, потирала руки, невпопад улыбалась, слышала, когда ей что-то говорили и не слышала в одно и то же время. Ее положили в специальную лечебницу.
Психоз прошел, но она оставалась тосклива, подавлена. Хозяева, чтобы как-то ободрить ее, рассказали, что история ареста Якова и ее неповиновения Центру стала широко известна, что ее недавно представили к Ордену Боевого Красного знамени, но Ворошилов собственноручно понизил награду до Красной Звезды, а когда руководитель Управления попытался отстоять свое предложение, возразил шутливо и грубовато: «Ничего, она еще его получит», — так что опала ее была, пожалуй, дороже иного возвышения…
Но ей было все равно, каким орденом ее наградят, — ей было не до этого. Она не могла забыть мертворожденного ребенка, думала о Якове, о том, что ей двадцать два года, что она не сможет найти другого человека, который бы нашел дорогу к ее сердцу, что жизнь ее если не закончена, то лучшая часть ее уже пройдена. А в это время Яков, сидя в учаньской тюрьме усиленного режима, заставлял себя есть донельзя вываренный рис, давился им и часами ходил по крохотной камере-одиночке. Она была шириной в метр и полтора — в длину, и он посчитал, что для того, чтобы выжить и не выйти на волю обезноженным, ему нужно каждый день проходить хотя бы пять километров и делать для этого две тысячи триста ходок взад-вперед по камере — он и накручивал ежедневно эти круги в проходе, остававшемся между стеной и нарами и донельзя узком даже тогда, когда лежанку поднимали и вешали на крюки, вбитые в кирпичную кладку…
11
Через три недели, прийдя в себя, Рене увидела как бы со стороны, новыми глазами, дом, в котором жила, его хозяев, слегка оробевших и растерявшихся от ее присутствия, и себя самое, заблудившуюся в тупиках и лабиринтах жизни. Но более всего ее задела и отрезвила мысль, что она в тягость гостеприимным Кариным. Ей даже показалось, что они с женой как-то нарочно поссорились при ней, чтобы внушить ей это, но это было, видимо, последнее облако болезненной тучи, заволокшей ее сознание. Никаких показных сцен они, конечно же, не ей устраивали: не такие были люди — напротив, уверяли, что она их не стесняет, но на их лицах, чуть натянутых и чересчур озабоченных, было поневоле написано обратное. Более всего на свете она не любила быть людям в тягость: что угодно, только не это — она учтиво поблагодарила их за то, что они поддержали ее и дали ей кров в трудную для нее минуту (это было правда, и она совершенно искренне это говорила), но пошла затем искать себе крышу в другом месте. Жили Карины в конце Плющихи, в доме Управления на Тружениковском переулке. Тут было несколько таких ведомственных домов — не прошла она и части пути, как повстречала знакомую австрийку Элен, которую знала со времен первого приезда в советскую столицу. Та работала в аппарате Управления, знала ее историю и, узнав о последних трудностях, немедленно предложила переехать к ней — благо для этого достаточно было перенести вещи через улицу. Вечером, чтоб не осталось неловкости, она еще раз зашла к Кариным и поблагодарила их — сказала, что хорошо себя чувствует, будет ждать Якова и готова выполнить новые поручения Управления.
Выглядела она бодрой, даже веселой и отдохнувшей, словно забыла о недавних несчастьях: они хотя и тлели в ее душе, но покрылись теперь густым пеплом и не вырывались наружу. Начальству стало ясно, что она оправилась от родильной горячки. Ее вызвали к руководству. Принял ее сам Урицкий, сменивший на этом посту Берзина. В Управлении все шло кувырком, одни люди сменяли других, готовилась всеобъемлющая чистка, но это ее не коснулось: и Урицкий, слывший человеком бесцеремонным до грубости и склонным к самоуправству, вел себя с ней как с дорогой и хрупкой вещью, словно боялся задеть ее или обидеть. Это был плотный, широколицый комдив с длинной холкой черных волос, низко спадавшей на лоб и оставлявшей сотрудникам глаза, глядевшие прямо, дерзко и неотступно. Но на Рене он смотрел шутливо и сочувственно.
— Вы, говорят, отошли от всего? — спросил он вместо приветствия и увидел, что она стоит и не намерена садиться. — Да садитесь вы! Я не приглашаю, потому что это само собой разумеется!..
На самом деле никто в его кабинете без спроса не садился, и хозяин долго выдерживал посетителей на ногах, нагоняя на них страху, но для Рене сделал исключение.