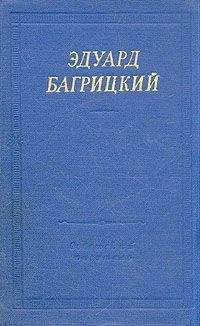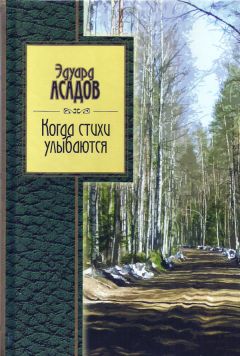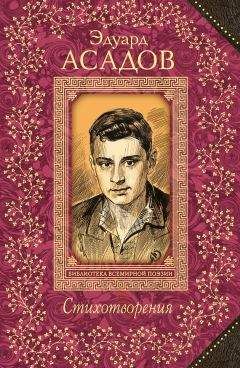М. Загребельный - Эдуард Багрицкий
Багрицкий подумал, потряс головой и солидно ответил:
«Хорошо. Еду. А когда?»
«Завтра», – отрезал Катаев, понимая, что надо ковать железо, пока горячо.
«А билеты?»
«Билеты будут».
«А деньги?»
«Деньги есть».
«Покажи».
Катаев демонстрирует несколько бумажек.
Багрицкий еще более жалобно смотрит на жену.
«Поедешь, поедешь, нечего здесь…» – ворчит она.
«А что я надену в дорогу?»
«Что есть, в том и поедешь».
«А кушать?» – уже совсем упавшим голосом спрашивает Багрицкий.
«В поезде есть вагон-ресторан».
«Ну это ты мне не заливай. Дрельщик!» – обрадовался Багрицкий. Наконец он поймал друга. Существование вагона-ресторана кажется ему настолько фантастичным, что он даже обозвал Катаева «дрельщиком», что обозначает «фантазер», «выдумщик», «врунишка».
«Вообрази!» – отрезает Катаев настолько убедительно, что Багрицкому ничего не оставалось, как сдаться. Условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда.
Катаев хорошо изучил характер Багрицкого. Знал, что он слово сдержит и на вокзал придет. Но Катаев так же не сомневался, что в последний момент он может раздумать. Поэтому приготовил Эдуарду ловушку, которая должна была сработать наверняка. И вот на перроне действительно появляется Багрицкий в сопровождении супруги, которая несет узелок с его пожитками и едой на дорогу. По уклончивым взглядам друга Катаев чувствует, что в последнюю минуту он приготовился улизнуть.
Они прохаживаются вдоль готового отойти поезда. Багрицкий кисло смотрит на зеленые вагоны третьего класса, бормоча что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне, в духоте, в тряске и так далее. Он даже вспомнил Блока: «…молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели» – он не хочет ехать среди пенья и плача.
«Знаешь, – заявляет Эдуард, надуваясь, как борец-тяжеловес, – сделаем лучше так: ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно. Даю честное слово. Бенемунес», – не мог не прибавить он клятву на идиш и посмотрел на свою жену.
Она, в свою очередь, участливо смотрит на мужа, на его угнетенную фигуру. Ее нежное сердце дрогнуло.
«Может быть, действительно…» – мямлит полувопросительно.
Ударил первый звонок.
Тогда Катаев выкладывает свою козырную карту.
«А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?»
«А в каком? Наверное, в жестком, бесплацкартном».
«Мы поедем вот в этом вагоне», – Катаев показывает пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натертой воском, как паркет. Этим вагоном Багрицкий и передислоцировался в Москву.
Первое время, без семьи, он пользовался гостеприимством Паустовского. Багрицкий явился к Паустовскому домой в подвал в Обыденский переулок. Дорогу ему показал писатель Семен Гехт (1903–1963). Расстегивая зеленую бекешу, Багрицкий доложил свое видение:
«Златоглавая столица! Порфироносная! Азия! Но в общем знайте, не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет! Я буду стоять постоем!»
Паустовский вспоминал, как сейчас же после приезда Багрицкого нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву. Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи – весь этот рокочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони. Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.
Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Клокочет бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги. Отдышавшись, читает вслух поэму «Уляляевщина» Ильи Сельвинского (1899–1968).
Даже сквозь закрытое окно проникает во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова:
Гайда-гайда-гайда-гайда – гай даларайда…
И-и-й ехали казаки, ды и-и-й ехали казаки, —
Чубы по губам!
Багрицкий читает «Уляляевщину» каждый раз по-новому. Обыгрывает своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место:
Улялаев був такій: выверчено віко,
Дірка в пидбородце тай в ухі серга.
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга.
Паустовский просит Багрицкого, чтобы он прочел свои стихи. Надеется утолить свою тоску по недавно покинутому Черному морю. По перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но Багрицкий не слушает и поет в каком-то самозабвении:
Гайда-гайда-гайда, гайда-гай-далара́йда!..
Однажды Паустовский принес мороженого судака. Багрицкий обещает зажарить его по «черноморско-греческому способу». Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то голодное время неимоверной, но Паустовский не жалел об этом.
Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями. Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обвалянные в муке. Отсвет огня играет на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал Паустовскому юношу с потемневшей итальянской фрески.
Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой. Багрицкий плотоядно присвистывает:
«Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митиленакаки, вы не сможете поесть такого судака. Мировая шамовка! – гордится он, разделывая этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. – Пища титанов и кариатид!»
Потом закуривают папиросы «Ира». Начались мечты. Багрицкий рассказывает почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно: «Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете! На круг – тысячу рублей? Или, может, больше?»
«Больше», – храбрится Паустовский.
«Полторы тысячи! – восклицает Багрицкий и испытующе глядит в ответ. – Или две?»
«Свободно! – небрежничает Паустовский. – Очень даже свободно, что и все три. Чем черт не шутит».
«Три так три! Тогда так, – соглашается Багрицкий и загибает палец на левой руке, – одну тысячу – телеграфом в Одессу Лиде и Севе. У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канареечного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается пятьсот рублей на дожитие».
Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги среди будущих покупок. И за этот счет одесская тысяча сокращалась до семисот рублей. То возникало духовое ружье.