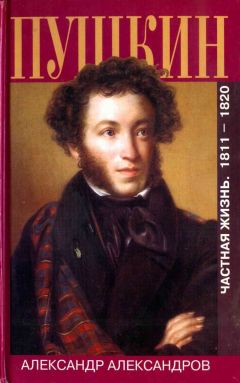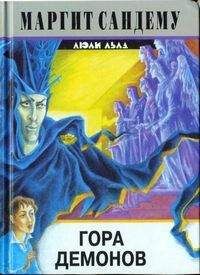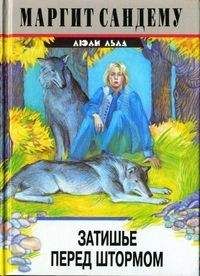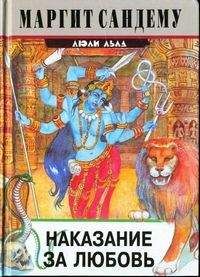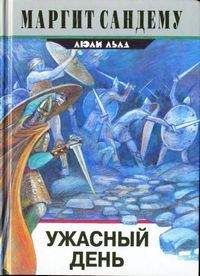Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Государь отметил его.
— Данзас Константин Карлович!
Вышел благодушный увалень, с огненно-рыжими волосами, неловко поклонился царю. Пропустим, решил государь. Кто дальше?
— Барон Дельвиг Антон Антонович!
Барон был полный, рыхлый и малоподвижный мальчик, но в глазах его, когда он их поднимал, светилась энергия. Однако сейчас он глядел так, как будто ничего перед собой не видел. Мимо…
— Есаков Семен Семенович!
Мальчик глядел заискивающе. И этот. Государь поскучнел. Прав, вероятно, де Местр. Во многом прав. Для кого клетка? Скучно…
— Илличевский Алексей Демьянович!
Этот глядел мечтательно.
— Комовский Сергей Дмитриевич!
Комовский был чересчур быстр, юлил, даже кланяясь, и успевая отступить и извернуться в течение нескольких мгновений, которые длилось представление государю. Лиса, отметил государь. И угадал. Именно такое было прозвище у мальчишки.
— Корсаков Николай Александрович!
Кучерявый, писаной красоты мальчик так очаровал обеих императриц, что они переглянулись. Государь обратил внимание, что Мария Федоровна несколько раз наставила на него свою лорнетку в золотой оправе.
— Барон Корф Модест Андреевич!
Тихий и скромный мальчик поклонился как-то особенно прочувствованно. Он, как и Корсаков, был красив какой-то женственной красотой, но при почти оформившейся мужской стати.
— Кюхельбекер Вильгельм Карлович!
Тощий, с выпученными глазами, длинный, как жердь, извивающийся и блеклый, как червяк, вылезший из земли после сильного дождя, он выступил вперед и словно споткнулся о невидимый барьер, чуть не растянувшись в присутствии высочайших особ. По рядам воспитанников пробежал смешок. Смешон, смешон, мысленно согласился с воспитанниками государь.
— Кюхель-бюхель, — язвительно прошептал один из мальчиков другому.
Но государь так же благосклонно ответил и на его поклон, поддержав неловкого мальчика улыбкой. Кюхля, покрасневший до корней волос, возвратился на место с желанием наложить на себя руки за собственную неуклюжесть.
Малиновский Иван Васильевич, сын директора Лицея, был высокого роста малый, с пробивавшимися усами, много старше прочих воспитанников. Было ему на вид шестнадцать-семнадцать. По сравнению с другими он смотрелся как дядя. Впрочем, еще двое-трое среди тридцати отроков были того же возраста.
— Матюшкин Федор Федорович!
— Пушкин Александр Сергеевич!
Арапчонок. С голубыми глазами. Забавно выглядит. Живой, смышленый, но что может получиться из арапчонка? Пусть и с голубыми глазами. Придворный? Придворные тоже нужны. А куда он смотрит?
Саша Пушкин заметил дядюшку Василия Львовича в задних рядах. Лицо его сияло, можно сказать, как медный таз. Как ему удалось проникнуть на торжество, куда родственники не допускались, было неясно. Скорее всего, он получил приглашение через департамент Александра Ивановича, который сидел с ним рядом. В последний миг, уже отступая назад, Пушкин спохватился, что, разглядывая своего дядю, он при поклоне даже не взглянул на государя, как их учил намедни министр Разумовский, и быстро посмотрел на Александра Павловича. Государь ласково улыбнулся ему и подумал, что для придворного этот мальчишка, пожалуй, чересчур дерзок. Он уже встречал среди русских дворян этот наглый взгляд серо-голубых глаз. Такой наглец может натворить дел.
— Пушкины — древний род, — вздохнул Василий Львович. — Он еще не раз заявит о себе… Молодые, молодые скажут свое веское слово. Мы старики… — Он снова вздохнул.
— Ну уж, Василий Львович, вы уж не прибедняйтесь, — сказал ему Александр Иванович. — Вы человек известный в России… «Опасный сосед»! — пощекотал он самолюбие Василия Львовича.
Василий Львович скромно потупился при упоминании своей популярной поэмы, ходившей в списках, и взял еще один леденец из бонбоньерки Александра Ивановича.
Александр Иванович искоса посмотрел на глуповато-гордое и в то же время подчеркнуто-смиренное лицо своего приятеля. Он не понимал, как можно искренне гордиться столь дурной сатирой в роде Грессетовых матерных пиес. Навешают пизд и елдаков, ухмыльнулся он про себя, и всерьез думают, что это свободомыслие. Но, впрочем, он вспомнил, что некоторые, Батюшков, например, восхищаются этими безделками. Последний даже сам переписывает поэму и рассылает друзьям.
— Пущин Иван Иванович!
— Яковлев Михаил Лукьянович!
Миша Яковлев, сделав шаг вперед, против своей воли, из чего можно было заключить, что это нервический спазм, скорчил комическую рожу, чем вызвал смешок рядом стоящих господ Пушкина и Пущина, а также гневный, испепеляющий взгляд надзирателя Мартына Пилецкого-Урбановича.
Государь загрустил: и это все? Прав де Местр — овчина выделки не стоит. Права матушка, что не отдала в Лицей братьев.
После представления, без всякой паузы, смело и бодро выступил вперед Александр Петрович Куницын. Он не читал, как директор, по бумажке, а стал говорить страстно и убежденно, хотя речь была явно написана прежде того:
— Из родительских объятий вы поступаете ныне под кров сего священного храма наук. Отечество приемлет на себя обязанности быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее действовать на образование ваших нравов. — Куницын обращался не к царю, не к залу, а к стоящим воспитанникам. Они тоже поняли это и стали внимательней.
— Он всех разбудил, — улыбнулся Василий Львович. — Живое слово мертвого разбудит.
— Это наш геттингенский… — пояснил Александр Иванович.
— Правовед? — поинтересовался Василий Львович и глянул на бонбоньерку в руках у Тургенева.
Александр Иванович кивнул в ответ и, перехватив его взгляд, предложил:
— Угощайтесь…
— Благодарю. В наше время не учились в Геттингене, — с сожалением вздохнул Василий Львович.
И, еще раз переглянувшись, они радостно принялись за леденцы.
Государь внимательно, как школьник, отбывающий урок, слушал адъюнкт-профессора Куницына.
— Государственный человек должен знать все, что только прикасается к кругу его действий; его прозорливость простирается далее пределов, останавливающих взоры частных людей. Стоя у подножия престола, он обозревает состояние граждан, измеряет их нужды и недостатки, предваряет несчастия, им угрожающие, или прекращает постигнувшие их бедствия… Сообразуясь с природой человека, он предпочитает тихие меры насильственным и употребляет последние только тогда, когда первые недостаточны; никогда он не отвергает народного вопля, ибо глас народа есть глас Божий…
Когда совершите вы поприще наук, Отечество снова призовет ваших родителей в сие святилище и, не обинуясь, скажет им: се дети ваши — мои возлюбленные чада; они оправдали мою надежду, желания ваши исполнились: они готовы служить вам подпорою, готовы защищать славу мою; они достойны быть блюстителями моего благоденствия.