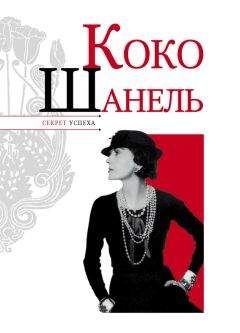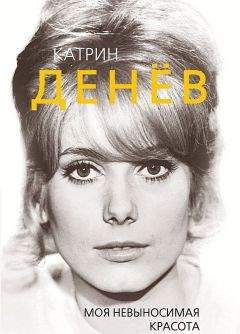Вальтер Беньямин - Франц Кафка
Ощущение слабости собственной интерпретации Кафки делает Брода особенно чувствительным и нетерпимым к интерпретациям других авторов. То, как он одним движением руки небрежно отметает и интерес сюрреалистов к Кафке, вовсе, оказывается, не столь уж безумный, и работы Вернера Крафта о малой прозе Кафки, работы местами очень значительные, – всё это приятного впечатления не производит. Но сверх того он, как видно, и всю будущую литературу о Кафке стремится заведомо обесценить. «Это можно объяснять и объяснять (что, несомненно, и будут делать) – но по неизбежности именно что без конца» (с. 69). Смысловой акцент, заключенный тут в скобки, режет ухо. А слышать о том, что «многие личные мелкие неприятности и беды» дают для понимания творчества Кафки гораздо больше, чем «теологические построения» (с. 213), особенно не хочется от того, кто тем не менее находит в себе достаточно решимости собственное исследование о Кафке построить на тезисе о его святости. Впрочем, похожий пренебрежительный жест отнесен и ко всему, что Брод считает помехой их дружескому с Кафкой общению, – как к психоанализу, так и к диалектической теологии. Та же надменная отмашка позволяет ему противопоставить стиль Кафки «фальшивой точности» Бальзака (при этом он имеет в виду не что иное, как всего лишь те прозрачные велеречивости, которые неотделимы ни от творчества Бальзака, ни от его величия).
Все это не отвечает духу Кафки. Слишком уж часто Броду недостает той сосредоточенности и сдержанности, что были так присущи Кафке. Нет человека, говорит Жозеф де Местр[142], которого нельзя было бы расположить к себе умеренностью суждения. Книга Брода к себе не располагает. Она не знает меры ни в похвалах, которые автор Кафке расточает, ни в интимности, с которой он о нем говорит. И то и другое, очевидно, берет начало еще в романе, в основу которого положена дружба автора с Кафкой. Взятая Бродом оттуда цитата отнюдь не выделяется в худшую сторону среди многочисленных бестактностей этого жизнеописания. Автора этого романа – называется он «Волшебное царство любви»[143] – весьма, как он сам теперь признается, удивляет, что оставшиеся в живых усмотрели в книге нарушение пиетета перед умершим. «Люди все истолковывают превратно, в том числе и это… Никто даже не вспомнил, что Платон подобным же, только гораздо более всеобъемлющим образом всю свою жизнь числил своего друга и учителя Сократа среди живущих, считал его сподвижником своих дел и размышлений, оспаривал его у смерти, сделав его героем почти всех диалогов, которые он написал после Сократовой кончины» (с. 82).
Мало надежд на то, что книгу Макса Брода о Кафке когда-нибудь будут упоминать в одном ряду с великими, основополагающими писательскими биографиями, такими как «Гельдерлин» Шваба, «Бюхнер» Францоза, «Келлер» Бехтольда[144]. Тем более примечательна она как свидетельство дружбы, которую следует отнести к одной из не самых простых загадок жизни Кафки.
Примечания
В этой небольшой книге собрано практически все, что Вальтер Беньямин написал о Кафке. У людей, знавших Беньямина, не возникало сомнений, что Кафка – это «его» автор (подобно Прусту или Бодлеру). Конечно, объем написанного невелик, а напечатанного при жизни – еще меньше. Тем не менее среди сотен текстов, написанных Беньямином о литературе, написанное о Кафке занимает свое, и немаловажное, место. Чтобы полностью оценить работу, проделанную Беньямином, следует учитывать и общий контекст, и его личную ситуацию. Именно поэтому в сборник включены не только законченные тексты о Кафке, но и заметки (отчасти воплощенные в этих текстах, отчасти так и оставшиеся набросками), а также письма.
Вальтер Беньямин познакомился с творчеством Кафки достаточно рано, как свидетельствует письмо его ближайшему другу Герхарду (позднее Гершому) Шолему от 21 июля 1925 (см. № 1 в Приложении), он познакомился с Кафкой уже по его первым публикациям. Последнее упоминание Кафки в бумагах Беньямина – в письме, посланном Адорно из Парижа от 7 мая 1940, уже в разгар боев Второй мировой войны в Европе и всего за несколько месяцев до гибели Беньямина на франко-испанской границе.
Таким образом, занятия Кафкой проходят через всю творческую деятельность Беньямина, и это притяжение вряд ли можно считать случайным. В литературе уже отмечалось, что Беньямин – по большей части скорее подсознательно – видел в Кафке родственную душу, нащупывая в его произведениях мотивы, близкие ему самому, и прикладывая к творчеству писателя определения, которые в той или иной степени могут быть использованы и при характеристике самого исследователя. Как писала Ханна Арендт, Беньямину «вовсе не обязательно было читать Кафку, чтобы думать, как Кафка»[145].
Примечателен, например, мотив «горбатого человечка» – эта детская песенка-страшилка преследовала Беньямина всю жизнь[146] пока наконец не стала замыкающим мир детских образов финалом в его книге автобиографических очерков «Берлинское детство на рубеже веков» (1932–1934), книге, во многом ключевой для понимания истоков жизнеощущения Вальтера Беньямина. Это было достаточно хорошо известно тем, кто знал Беньямина лично, и Ханна Арендт, например, даже ввела этот мотив в качестве заглавного в свое эссе о Беньямине. Другой личный мотив – детская фотография: воспоминания о посещении фотоателье в детстве принадлежали также к числу основных элементов творческой памяти Беньямина. Пересечение двух линий рассуждения произошло в «Краткой истории фотографии» (1931), где Беньямин включает свой личный опыт и рассуждение о детской фотографии Кафки в общий культурно-исторический контекст. Определение творчества Кафки как эллипса, лишенного единого центра, – пример определения, которое с тем же успехом может быть применено и к работам самого Беньямина.
Итоговое суждение Беньямина о Кафке как неудачнике в не меньшей степени характеризует самого Беньямина. Дело не только в том, что оба автора не смогли добиться непосредственного успеха в обращении к читающей публике и подлинная слава пришла к ним только после смерти. Творчество обоих может быть понято как постоянное стремление совершить невозможное, выразить невыразимое, запечатлеть неуловимое. Обоих ожидал при этом «блестящий провал», явившийся одной из наиболее характерных отличительных черт европейской культуры XX века.
В тот момент, когда Беньямин обратился к Кафке, пражскому писателю еще было далеко до того ореола всеобщего признания, какой окружил его имя впоследствии. До середины 1920-х годов имя Кафки упоминалось в критических и литературоведческих изданиях крайне редко, по большей части он удостаивался лишь кратких суждений и характеристик (даже отдельные рецензии были редкостью, чаще всего Кафка фигурировал в обзорах новых публикаций, вместе с другими авторами). В то же время уже в середине 1920-х годов, по мере публикации романов Кафки, творчество писателя начинает все больше занимать тот круг интеллигенции, к которому принадлежал и Беньямин (ср., например, упоминание о рецензии З. Кракауэра на «Замок» в открытке, отправленной Беньямином Кракауэру в январе 1927 года из Москвы).