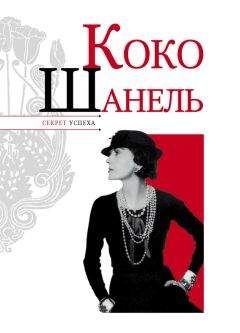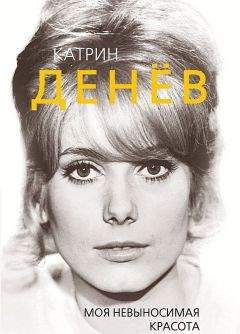Вальтер Беньямин - Франц Кафка
Ибо точнейшим образом запечатленное искажение, столь характерное для кафковского мира, потому так и трогает нас за живое, что, покуда все бывшее себя не распознало и тем самым не свело на нет, всё грядущее, новое и высвобождающее грезится здесь в образе кары. Вот почему Вилли Хаас совершенно прав, когда расшифровывает неведомую вину, что навлекает процесс на Йозефа К., как забвение[134]. Этими конфигурациями забвения, умоляющими призывами к нам наконец-то вспомнить и опомниться, творчество Кафки заполнено сплошь – достаточно указать на «Заботы отца семейства», где про странную говорящую шпульку ниток по имени Одрадек никто не может вспомнить, что она такое есть, или на жука-навозника из «Превращения», про которого мы слишком хорошо помним, кем он был, а был он человеком, или на «Гибрид»[135], животное, полукошку-полуягненка, для которого, наверное, нож мясника был бы избавлением.
«Иль хочу пойти в садочек,
Мой цветочек поливать,
А там горбатый человечек,
Вроде как зовет гулять»
говорится в одной непостижимо загадочной народной песне[136]. Это тоже некто из забвения – горбатый человечек, которого мы когда-то знали, и тогда он жил в мире и покое, а теперь, забытый, он заступил нам дорогу в будущее. И, конечно же, в высшей степени знаменательно, что образ человека глубочайшей религиозности, человека праведного, Кафка если не сам создал, то распознал – и в ком же? Ни в ком другом, как в Санчо Пансе, который избавился от промискуитета с демоном благодаря тому, что сумел подсунуть тому вместо себя другой предмет, после чего уже мог вести спокойную жизнь, в которой ему ничего не нужно было забывать.
«Санчо Панса, – гласит это столь же краткое, сколь и поразительное толкование, – умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта – а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса – никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности хладнокровно сопровождал Дон Кихота в его странствиях, до конца дней находя в этом увлекательное и полезное занятие»[137].
Если всеобъемлющие романы писателя – это тщательно обработанные поля, которые он нам оставил, тогда новый том его малой прозы, из которого взята и эта притча, – это котомка сеятеля, а в котомке зерна, и сила у зерен природная, такая, что они, как мы теперь знаем, даже тысячелетия пролежав в гробнице, будучи извлеченными на свет, все равно дадут всходы.
Ходульная мораль
Чем увереннее и привычнее удается иным людям во всех их делах и бездействиях поистине с изворотливостью угрей ускользать от железной хватки правды, тем со все более изощренным рвением норовят они заняться «вопросами совести», «внутренними конфликтами» и «этическими максимами». Это все, разумеется, не ново, но не избавляет нас от необходимости на данное противоестественное явление указать – там и тогда, где и когда оно начинает вокруг себя распространяться. А именно это, причем весьма беззастенчиво, происходило недавно в ходе полемики о наследии Кафки, которую Эм Вельк[138] открыл против Макса Брода[139], издателя этого наследия. В своих послесловиях к «Процессу» и «Замку» Брод сообщил, что Кафка передал ему эти свои произведения для ознакомления с настоятельным условием никогда их не публиковать, а наоборот, впоследствии уничтожить. Это сообщение Брод сопроводил изложением мотивов, которые побудили его с волей автора не посчитаться. Впрочем, не только эти мотивы, но и многое другое не позволяло никому прежде, никому до Эма Велька, ухватиться за столь же удобный, сколь и очевидно поверхностный предлог, дабы обвинить Брода в нарушении долга дружбы, – обвинение, которое мы здесь намерены решительно отмести. Ибо что же было делать, если перед тобой вдруг очутилось это потрясающее искусство Кафки, оно стояло, раскрывало свои огромные глаза, в которые надо было смотреть, и в миг своего появления самим существованием своим в корне все изменило, как меняет рождение ребенка самую преступную и незаконную внебрачную связь. Отсюда и уважение, и почтение, подобающее искусству Кафки, но вместе с тем адресованное и нравственной позиции человека, только благодаря которому нам это искусство теперь доступно – наяву и во плоти. С уверенностью можно утверждать лишь одно: абсурдное обвинение против Брода не могло быть высказано никем из тех, кому творчество Кафки хоть сколько-нибудь близко (да и сам-то он как иначе может быть нам сегодня близок, кроме как через свое творчество?), столь же очевидно и то, что обвинение это, коли уж оно высказано, само же обнаружит всю свою жалкую вздорность при первой же конфронтации именно с этим творчеством. Творчество это, обращенное к самым темным явлениям жизни человеческой (явлениям, которыми исстари занимались теологи и к которым лишь изредка, как вот Кафка, отваживались подступиться поэты), потому и обладает таким художественным величием, что несет эту теологическую тайну всецело в себе, внешне же предстает в образе неброском, сосредоточенном и строгом. Столь же строгой, как и вся жизнь Кафки, была и его дружба с Максом Бродом. Меньше всего напоминая рыцарский орден или тайный союз, это была очень близкая и теплая, но целиком и полностью подчиненная обоюдным интересам творчества и тому, как их творчество воспринимается, дружба двух писателей. Боязнь автора публиковать свое произведение была обусловлена убеждением, что произведение несовершенно и не завершено, а вовсе не намерением навсегда сохранить его под спудом в тайне ото всех. И то, что он руководствовался этим убеждением в своей собственной практике литератора, столь же очевидно, как и то, что кто-то другой, в данном случае его друг, мог это убеждение не разделять. Коллизия эта, несомненно, была для Кафки ясна, причем именно с обеих сторон. То есть он знал не только одно: я обязан во имя того, что во мне еще не состоялось, отставить все состоявшееся; он знал и другое: тот, второй, всё спасет и избавит меня и мою совесть от разрешения мучительной дилеммы – либо самому отдавать рукопись в печать, либо ее уничтожить. Тут, чувствую, негодованию Эма Белька не будет предела. Только ради того, чтобы прикрыть Брода, предполагать у Кафки столь иезуитские уловки мысли, reservatio mentalis![140] Приписывать ему глубоко запрятанное желание, чтобы произведения его были опубликованы, и одновременно с ними чтобы был напечатан и запрет писателя на их публикацию! Так точно, именно это мы и утверждаем, а еще добавим: истинная верность Кафке в том и заключается, чтобы все было сделано именно так. Чтобы Брод опубликовал эти произведения, а одновременно с ними и завещание писателя, повелевающее этого не делать. (При этом Броду вовсе не требовалось смягчать неукоснительность последней воли Кафки указанием на переменчивость его настроений.) Вероятно, так далеко Эм Вельк за нами пойти не захочет. Хочется надеяться, что он давно уже повернул обратно. Его нападки – свидетельство полного непонимания, с которым он смотрит на все, что касается Кафки. К нему, к Кафке, дважды немому, ходульная рыцарская мораль неприложима. Так что пусть уж лучше господин Вельк слезет со своего высокого коня.