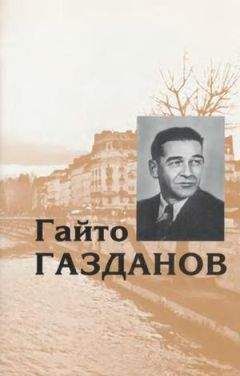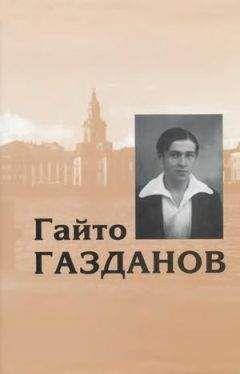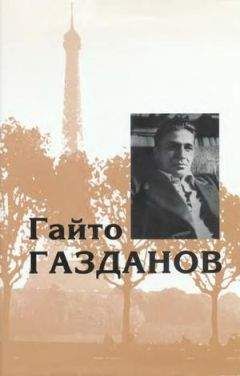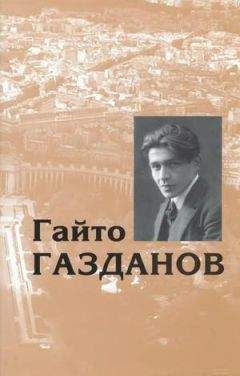Ольга Орлова - Газданов
Конечно, помимо нарядов, учений и поисков пропитания была в лагере и другая жизнь. Выступали с устной газетой, а вскоре появился и иллюстрированный журнал «Развей горе в голом поле». Общими усилиями офицеры создали неплохую библиотеку. Ее посещение скрадывало постоянное уныние, в котором пребывал Гайто. Иногда проводились футбольные матчи, к чему Гайто пристрастился еще в харьковской гимназии. Довольно быстро наладилась почта. Письма приходили даже из Харбина, где осело немало русских эмигрантов. Но из Харбина Гайто ничего не ждал, а вот из Харькова и с Кавказа вестей не было. Вообще же новости из России приходили разноречивые и часто походили на слухи. Постоянно распространялись сообщения, что большевистский режим вот-вот рухнет, возвращение на родину не за горами, а потому всем следует оставаться при исполнении своих обязанностей и в полной боевой готовности.
Так в середине декабря 1920 года стала известна штабная сводка от 22 ноября: русские политические партии из Парижа, Лондона, Ниццы поддерживают генерала Врангеля, восхищаются мужеством Добровольческой армии и считают борьбу за Россию не законченной, а лишь временно прерванной. В армии таким образом старались поддерживать боевой дух, который падал с каждым днем, несмотря на все усилия командования.
С этой же целью в лагере был устроен театр. Располагался он прямо под открытым небом. Сцена была оборудована довольно сносно: хорошие декорации, тяжелый занавес. Уложенные рядами каменные кубы играли роль кресел. «Зал» был устроен между одной высокой стеной слева, отделяющей театр от улицы, и второй глухой стеной справа, ограждающей с внешней стороны развалины дворца. Ставили «Ревизора» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, а также пьесы Чехова, Островского, Стриндберга.
Изредка во время спектакля доносились пение и крики из публичного дома, стоявшего на той же улице, но слушатели к этому быстро привыкли и уже не обращали на иноязычное многоголосье никакого внимания. В лагерном театре давались и благотворительные концерты; пели Плевицкая, Браминов, Новский. Гайто никогда не покупал билетов. Во-первых, у него не было денег (те, что изредка появлялись, он сразу проедал), а во-вторых, этого и не требовалось: выступление можно было увидеть, не заходя в зал. Между глухой стеной и развалинами дворца была площадка. Сидя там на камнях, Гайто видел всю сцену и слышал каждое слово. Быть может, это были лучшие моменты его жизни в Галлиполи. Однако и им суждено было вскоре закончиться.
4
— Не понимаю, чего все ждали от наших покровителей, должно быть, думали, что стоит только переехать границу, как жареные голуби будут сами влетать в рот. Большинство совершенно безосновательно ожидали от этого «путешествия поневоле» чего-то хорошего, приятного. Лично я не ожидал ничего хорошего, и потому существующий порядок вещей меня нисколько не возмущает, он вполне естественный, — говорил, сидя у костра, собеседник Гайто, пожилой офицер, сослуживец его отца, с которым они встретились случайно во время утреннего развода.
Как-то проходя мимо разводящего, выкрикнувшего фамилию «Газданов», тот остановился и посмотрел на юношу, шагнувшего вперед. Узнав сына своего товарища, старый служака взял его под опеку и проводил с ним успокоительные беседы, когда Гайто возмущался порядком лагерной жизни. Неторопливо помешивая угли, старик пытался пробудить в юноше здоровый скептицизм по отношению к окружающей обстановке, ограждающий от уныния. В этот момент Гайто заметил, что к соседнему костру примчались «апостолы» и сунули сразу несколько котелков.
– Послушайте, Петр Николаевич, куда же вы толкаете мой котелок? Это ж нахальство!
– Он говорит «нахальство»… Молокосос, вы знаете, что я старшинства девятьсот седьмого года.
– Ну, так знайте, что я девятьсот четвертого! Имею крест за Ляоян!
Ну, господа, — вмешался третий, — если уж пошло на это, то вот видите эту руку… — протянул он руку к костру, – ее пожимал сам Михаил Дмитриевич…
Молчание в ответ…
– Михаил Дмитриевич Скобелев, — добавил третий. И тогда котелки почтительно уступили место.
Гайто почти с завистью посмотрел на офицеров, для которых фигура полководца Скобелева являлась подлинным авторитетом. Вспомнил он и своего деда — участника Русско-турецкой кампании, которую тот прошел под командованием Скобелева. Для самого Гайто годы революции и Гражданской войны сплели все авторитеты в один клубок безвозвратно ушедшей жизни, и он уже не мог полагаться с полной уверенностью на мнение ни одного из окружавших его людей.
Вот и сейчас, когда в лагерь приехал Врангель, многие офицеры встретили его с искренним воодушевлением, однако в душе добровольца Газданова выступление генерала не вызвало ни малейшего отклика.
Войска выстроились на площадке. Врангель поздоровался с воинами и быстрым шагом обошел ряды. Старичок адмирал с трудом поспевал за ним. Генерал говорил, что сегодня впервые после крымских берегов ему удается поговорить с солдатами. Уже по пути сюда на пароходе французское командование уведомило его по радио, что Добровольческие войска не будут считаться беженцами, как прежде предполагалось, а остаются армией.
– Во главе армии буду по-прежнему стоять я, — твердо произнес Врангель, — и я буду являться вашим ходатаем перед французским командованием о ваших нуждах. Я приму все меры и потребую, чтобы наше положение было улучшено. Мы имеем право не просить, а требовать, потому что то дело, которое мы делали, было общее дело и имело мировое значение. Мы выполнили свой долг до конца, и не мы виноваты в исходе этой борьбы. Виновен весь мир, который смотрел на нас и не помог нам.
Но Гайто уже не хотелось ни просить, ни требовать. Ему хотелось жить свободно и выбирать свой путь самому, как тогда, в детстве, когда они с отцом мечтали отправиться в путешествие на корабле и составляли самые невероятные маршруты.
– Маму мы с собой не возьмем, — среди резких и четких слов генерала доносило эхо голос отца. — Она боится моря и будет только расстраивать храбрых путешественников.
– Пусть мама останется дома, — вторил его детский голос.
– Итак, мы, значит, плывем с тобой в Индийском океане. Вдруг начинается шторм. Ты капитан, к тебе все обращаются, спрашивают, что делать. Ты спокойно отдаешь команду. Какую?
– Спустить шлюпки!
– Ну, рано еще спускать шлюпки. Ты говоришь: закрепите паруса и ничего не бойтесь.
– И они крепят паруса. — Его детский голос уже звенел.
– Да, сынок, они крепят паруса, — устало вторил отец.
Продолжением этого путешествия стал его отъезд на бронепоезде. Он сам решил уйти в белую армию. Потом, в Новороссийске, когда Врангель объявил, что каждый волен решать: плыть ему за границу или жить с большевиками в России, он сам решил отправиться в Константинополь. Но здесь, в Галлиполи, выбирать было не из чего и никто от него никаких решений не ждал. Все решалось где-то наверху, а главное, — страшно долго. Дни тянулись бесконечно, и в этой дымке, сотканной из ожидания, тоски и уныния, все ясней и ясней проступали черты будущей жизни — прозрачной, радостной, легкой… Надо было только сделать усилие, и, казалось, все изменится… Но каким должно быть это усилие, Гайто не знал. Он уже ничего не боялся, но он не мог больше «крепить паруса», он был готов «спускать шлюпки». Открыв блокнот, который в первые же дни выпросил у штабного офицера, чтобы время от времени вносить туда необходимые записи, Гайто медленно вывел: