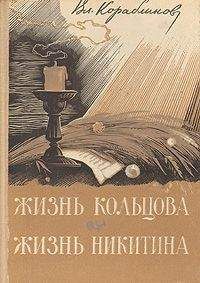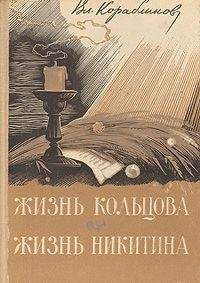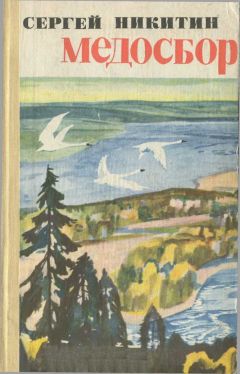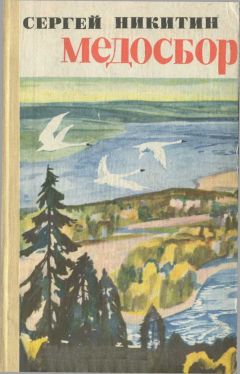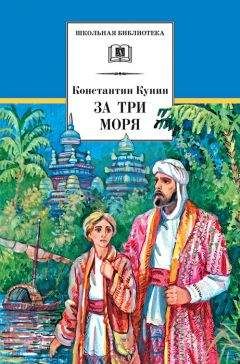Ф. Савицкий - Иван Никитин. Его жизнь и литературная деятельность
Кроме поездки в Москву и Петербург, о которой мы уже говорили, 1860 год ничем особенным в жизни Никитина не ознаменовался. В этом году среди нескольких местных литераторов явилась мысль об издании литературного сборника под заглавием “Воронежская беседа”. Средства для этого были предоставлены одним из преподавателей корпуса, П. П. Глотовым, а редакторство принял на себя М. Ф. Де-Пуле. Вокруг него образовался новый литературный кружок, который, кроме Никитина, составляли И. И. Зиновьев, А. С. Суворин и Н. Н. Чеботаревский. В Никитине снова ожил литератор, хотя это была последняя вспышка. Он с увлечением взялся написать для “Воронежской беседы” большую повесть из семинарской жизни. Впрочем, этот замысел не был исполнен – помешали торговые дела и болезнь, – и вместо повести Никитин должен был ограничиться очерками, которым он дал название “Дневник семинариста”. Эти очерки имеют большой автобиографический интерес. Они носят сильно субъективный характер, чему много способствует сама дневниковая форма их. Никитин, очевидно, рассказывает здесь повесть собственной жизни, а многие сцены и лица, кажется, списаны прямо с натуры. “Дневник” ведется от лица семинариста Белозерского, который описывает свои впечатления. Белозерский – это хорошая, но пассивная и уже порядочно забитая воспитанием натура, уже в молодые годы прошедшая школу терпения. “Терпение и терпение! – пишет он. – Об этом говорят мне не только окружающие меня люди, но книги и тетрадки, которые я учу наизусть, и, кажется, самые стены, в которых я живу”. Зубристика не убила в нем, однако, способности рассуждать самостоятельно; он критически смотрит вокруг себя, на свою науку, профессоров и товарищей, порывается в университет, куда увлекает его друг, Яблочкин, но твердо идти к цели, бороться с препятствиями не способен. Белозерский без ропота подчиняется воле священника-отца, который требует, чтобы сын “пребывал в том звании, из которого вышел”. Некоторыми чертами все это напоминает историю самого автора “Дневника”, его порывы к другой жизни и, наконец, историю выхода из семинарии. Совершенно другой тип представляет друг Белозерского, Яблочкин. Это смелый и независимый ум, развившийся под влиянием литературы, в особенности под влиянием Белинского, которым зачитывались тогда семинаристы. Яблочкин не может примириться с семинарской схоластикой, хочет сознательно относиться ко всему, что ему приходится учить, и пользуется за это репутацией вредного вольнодумца. Заветная мысль Яблочкина – попасть в университет, куда он готов дойти хоть пешком; но добиться этой цели ему не пришлось: он умирает от чахотки. Что это тип не выдуманный, а живой, видно на примере Серебрянского. Да и сам Никитин, как мы уже знаем, представляет продукт литературы сороковых годов, влияние которой проникало даже за запертые стены дореформенной семинарии. Но Яблочкин – единственный светлый образ в “Дневнике”; все остальное – и образование, и нравы семинарии – Никитин изображает в мрачном виде. О сухости и приемах семинарского образования мы уже говорили; дополним это характерной сценой экзамена из “Дневника семинариста”.
“Ученики выходили по вызову друг за другом. И вот один, малый, впрочем, неглупый (относительно), замялся и стал в тупик.
– Ну, что ж? Вот и дурак! Повтори, что прочитал.
– Хотя творчество фантазии как свободное преобразование представлений не стесняется необходимостью строго следовать закону истины, однако ж, показуясь представлениями, взятыми из действительности, оно тем самым примыкает к миру действительному. Оно только расширяет действительность до правдоподобия и возможности…
– Что ты разумеешь под словом “показуясь”?
– Слово “проявляясь”.
– Ну, хорошо. Объясни, как это расширяется действительность до правдоподобия? Ученик молчал.
– Ну, что ж ты молчишь?
– Забыл.
Федор Федорович (профессор) двигал бровями, делал ему какие-то непонятные знаки рукой. Ничто не помогало. Не утерпел он – и слова два шепнул.
– Нет, что ж, подсказывать не надо.
– Вы напрасно затрудняетесь, – сказал ученику один из профессоров. – “Юрия Милославского” читали?
– Читал.
– Что ж там? Действительность или правдоподобие?
– Действительность.
– Почему вы так думаете?
– Это исторический роман.
– Нет, что ж, дурак! Положительный дурак, – сказал отец ректор и махнул рукой.
История в этом роде повторялась со многими. Едва доходило дело до объяснений и примеров, ученики становились в тупик”.
Это – наглядные результаты семинарской зубристики, которая забивала даже крепкие головы. Трудно было сохранить приятные воспоминания о школе, от которой веет только холодом и сухостью, и неудивительно, что в каждой строчке “Дневника” сквозит антипатия к ней автора.
Эта литературная работа и душевные волнения, вызванные нахлынувшими воспоминаниями, дорого обошлись ему: он захворал. Последнюю сцену “Дневника”, сцену смерти Яблочкина, Никитин прочел Де-Пуле в своем книжном магазине.
– Доконал меня проклятый семинарист, – воскликнул он, приступая к чтению.
С первых же слов смертная бледность покрыла его лицо; глаза загорелись сухим пламенем; красные пятна зарделись на щеках; голос дрожал, порывался и замер как-то страшно на словах:
О жизни покончен вопрос…
Больше не нужно ни песен, ни слез!
Этими стихами оканчивается “Дневник семинариста”.
Вопрос о жизни действительно уже был почти покончен для Никитина. Болезнь медленно, но упорно подтачивала его силы, хотя крепкий от природы организм все еще боролся с ней. К концу года здоровье его снова поправилось и Никитин чувствовал себя довольно бодро. Явились планы перевести магазин в новое и более удобное помещение, предполагалось опять сделать поездку в столицы. Но этим планам, однако, не суждено было исполниться.
Мы видели уже, как сложилась вообще бедная событиями жизнь Никитина. Одинокое детство в богатой мещанской семье с самодуром отцом во главе; школа, которая открыла юноше смутную, но увлекательную перспективу, пробудила мысль и желание найти себе дорогу к новой жизни, отличной от той, которой жили все, кто его окружал. Затем – семейный кризис и одновременно кризис всех лучших надежд молодого человека. Вместо университета пришлось очутиться на постоялом дворе, в обществе извозчиков, переносить унижения бедности и зависимости от пьяного отца, слышать его постоянные упреки: “А кто тебе дал образование и вывел в люди!” – в которых было столько злой иронии! Так прошли лучшие годы молодости. Трудно в такой атмосфере сохранить хоть какую-то искру таланта, не ожесточиться и не очерстветь душою. Но эта искра все-таки тлела, и судьба наконец сжалилась над бедным поэтом-дворником: быстрый успех, признание таланта, популярность – все это вдруг осветило темную жизнь Никитина. Можно было радоваться и считать себя вознагражденным за трудные годы жизни; но и это счастье заключало в себе долю горечи. С этой поры жизнь Никитина как будто раздваивается: одной стороной он принадлежит интеллигентной части общества, живет ее интересами и должен удовлетворять тем требованиям, которые ему предъявляются как писателю; другой стороной он – дворник, обязанный для своего существования ухаживать за извозчиками, отпускать им овес и сено, каждый день вступать с кухаркой в обсуждение вопроса о том, в каком горшке варить щи, и так далее. Такое положение не могло не тяготить Никитина. Нужно было устроить свою жизнь иначе, добиться самостоятельности и материального довольства, стать на такую ступень общественной лестницы, где не пришлось бы испытывать постоянных унижений. Наконец и это удается, хоть оплачивается дорогой ценой: в долгой борьбе с жизнью приходится растратить “и чувства лучшие, и цвет своих стремлений”, иссушить ум и сердце. А кроме того, мучительная болезнь отравляет даже лучшие минуты жизни, от времени до времени напоминая о смерти. Все это отразилось на характере Никитина, угрюмом и нелюдимом, и на его стихотворениях, в которых так много душу надрывающей тоски и совсем нет нот радости. “Я не сложил, не мог сложить ни одной беззаботной, веселой песни во всю мою жизнь”, – говорит он сам.