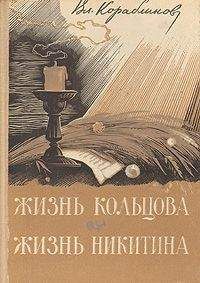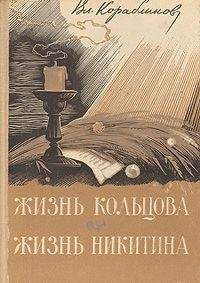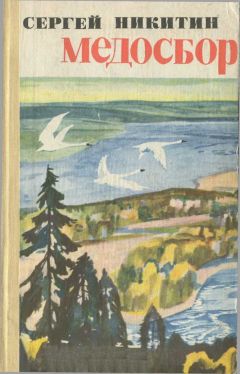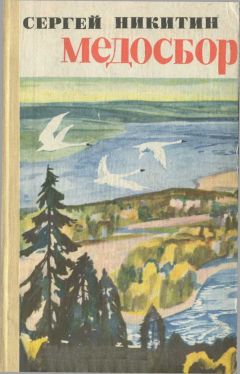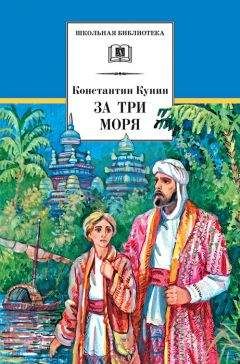Ф. Савицкий - Иван Никитин. Его жизнь и литературная деятельность
Если бы идеалист Белинский дожил до шестидесятых годов, он, наверное, многому порадовался бы из того, что совершалось тогда в нашей литературе и жизни. Очевидно, что причина такой перемены во взглядах Никитина была другая. Проза жизни взяла верх над всем остальным; случилось то, что предвидел и сам Никитин, когда в одном письме к Второву высказывал опасение, что ему придется “ожесточиться и очерстветь”. Та суровая жизненная школа, которую прошел поэт-мещанин, выработала из него тяжкодума, сурово и прозаически смотрящего на жизнь, с недоверием относящегося ко всяким смелым надеждам и высоким порывам, ко всему, что не приносит осязательной практической пользы. Мещанин, даже отчасти кулак, “торговый человек” в конце концов все-таки сказался в Никитине.
Ярче всего этот переворот в Никитине выразился в следующем факте. Весной 1860 года в Воронеже был устроен литературный вечер в пользу литературного фонда. Никитин выступил здесь со стихотворением “Поэту-обличителю”, которое начинается так:
Обличитель чужого разврата,
Проповедник святой чистоты,
Ты, что камень на падшего брата
Поднимаешь, – сойди с высоты!
Все это стихотворение было направлено против Некрасова, которому так горячо сочувствовал раньше Никитин (“Некрасов у меня есть, не утерпел, добыл. Да уж как же я его люблю!” – писал он в 1857 году). Неприличие и грубость этой выходки заключаются в том, что поэт нападает не на литературную деятельность Некрасова, а на его личность и частную жизнь, которую Никитин громит, основываясь на каких-то слухах, дошедших до него, как объясняет Де-Пуле.
Твоя жизнь, как и наша, бесплодна,
Лицемерна, пуста и пошла…
Ты не понял печали народной,
Не оплакал ты горького зла.
Нищий духом и словом богатый,
Понаслышке о всем ты поешь
И бесстыдно похвал ждешь, как платы,
За свою всенародную ложь… и т. д.
Любопытно для характеристики тогдашнего настроения умов, что это стихотворение было восторженно встречено публикой. Никитин по вызову должен был его повторить.
Столь же отрицательно относится Никитин и к другим сторонам тогдашней жизни. Как человек, сам вышедший из простого народа, он, конечно, не мог не сочувствовать освобождению крестьян и день 19 февраля встретил с восторгом. Но это, кажется, и все, чему он сочувствовал. К другим вопросам, выдвинутым жизнью, он относится с недоверием или прямо со злобой. Достаточно просмотреть только его произведения последних лет жизни, чтобы убедиться в этом. Симпатичными чертами у него рисуется только “наш бедный труженик-народ, несущий крест свой терпеливо”; все, что касается народа, Никитин близко принимает к сердцу. Во всем остальном он видит только “разврат души, разврат ума и лень, и мелочность, и тьму”. В стихотворении “Разговоры”, в свое время наделавшем много шуму, Никитин с иронией говорит о порывах интеллигенции:
В нас душа горяча,
Наша воля крепка,
И печаль за других —
Глубока, глубока!..
А приходит пора
Добрый подвиг начать —
Так нам жаль с головы
Волосок потерять:
Тут раздумье и лень,
Тут нас робость возьмет;
А слова… на словах
Соколиный полет!..
В том же духе, только более резко, он пишет и Второву: “Тошно слушать эти заученные возгласы о гласности, добре, правде и прочих прелестях. Царь ты мой небесный! Исключите два-три человека, у остальных в перспективе карманные блага, хороший обед, вкусное вино etc. etc. А знаете, я прихожу к убеждению, что мы – преподленькие люди, едва ли способные на какой-либо серьезный, обдуманный, требующий терпения и самопожертвования труд. Право так!”
Исключить, как известно, пришлось не двух-трех, а многих благородных и честных деятелей, взявших на себя тяжелую задачу проведения в жизнь великих реформ императора Александра Николаевича. Но для нас интересны эти отзывы Никитина, стихотворные и прозаические, как характеристика самой личности поэта-мещанина и его мировоззрения. В общественном движении конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, конечно, было много незрелого, даже уродливого, – отрицательные типы того времени много раз выводились в нашей литературе; но видеть в нем только “разврат души, разврат ума” и не замечать, сколько в тогдашнем общественном энтузиазме было молодого, живого и хорошего, – значит демонстрировать только узость собственных взглядов. Не надо забывать, что при несомненном поэтическом даровании и наблюдательности Никитину недоставало правильного и широкого образования. Если подвести итог всему, что дала ему школа, то окажется, что, кроме кое-каких отрывочных сведений, которые он мог вынести из семинарии, да смутных идей о великом и благотворном влиянии науки и литературы, – ничего не дала. С таким небольшим умственным капиталом Никитин вступил на литературное поприще. Правда, с тех пор его развитие сделало большой шаг вперед: он много и серьезно читал, прислушивался к разговорам образованных людей, среди которых вращался; но это развитие происходило в слишком узкой сфере провинциальной жизни. В конце концов из него выработался интеллигентный самоучка, вышедший из простого народа и запертый в таком узком кругу мещанско-торгашеской жизни, в котором ему было душно и тесно; но выбиться из этого круга совершенно ему не пришлось.
Кроме поездки в Москву и Петербург, о которой мы уже говорили, 1860 год ничем особенным в жизни Никитина не ознаменовался. В этом году среди нескольких местных литераторов явилась мысль об издании литературного сборника под заглавием “Воронежская беседа”. Средства для этого были предоставлены одним из преподавателей корпуса, П. П. Глотовым, а редакторство принял на себя М. Ф. Де-Пуле. Вокруг него образовался новый литературный кружок, который, кроме Никитина, составляли И. И. Зиновьев, А. С. Суворин и Н. Н. Чеботаревский. В Никитине снова ожил литератор, хотя это была последняя вспышка. Он с увлечением взялся написать для “Воронежской беседы” большую повесть из семинарской жизни. Впрочем, этот замысел не был исполнен – помешали торговые дела и болезнь, – и вместо повести Никитин должен был ограничиться очерками, которым он дал название “Дневник семинариста”. Эти очерки имеют большой автобиографический интерес. Они носят сильно субъективный характер, чему много способствует сама дневниковая форма их. Никитин, очевидно, рассказывает здесь повесть собственной жизни, а многие сцены и лица, кажется, списаны прямо с натуры. “Дневник” ведется от лица семинариста Белозерского, который описывает свои впечатления. Белозерский – это хорошая, но пассивная и уже порядочно забитая воспитанием натура, уже в молодые годы прошедшая школу терпения. “Терпение и терпение! – пишет он. – Об этом говорят мне не только окружающие меня люди, но книги и тетрадки, которые я учу наизусть, и, кажется, самые стены, в которых я живу”. Зубристика не убила в нем, однако, способности рассуждать самостоятельно; он критически смотрит вокруг себя, на свою науку, профессоров и товарищей, порывается в университет, куда увлекает его друг, Яблочкин, но твердо идти к цели, бороться с препятствиями не способен. Белозерский без ропота подчиняется воле священника-отца, который требует, чтобы сын “пребывал в том звании, из которого вышел”. Некоторыми чертами все это напоминает историю самого автора “Дневника”, его порывы к другой жизни и, наконец, историю выхода из семинарии. Совершенно другой тип представляет друг Белозерского, Яблочкин. Это смелый и независимый ум, развившийся под влиянием литературы, в особенности под влиянием Белинского, которым зачитывались тогда семинаристы. Яблочкин не может примириться с семинарской схоластикой, хочет сознательно относиться ко всему, что ему приходится учить, и пользуется за это репутацией вредного вольнодумца. Заветная мысль Яблочкина – попасть в университет, куда он готов дойти хоть пешком; но добиться этой цели ему не пришлось: он умирает от чахотки. Что это тип не выдуманный, а живой, видно на примере Серебрянского. Да и сам Никитин, как мы уже знаем, представляет продукт литературы сороковых годов, влияние которой проникало даже за запертые стены дореформенной семинарии. Но Яблочкин – единственный светлый образ в “Дневнике”; все остальное – и образование, и нравы семинарии – Никитин изображает в мрачном виде. О сухости и приемах семинарского образования мы уже говорили; дополним это характерной сценой экзамена из “Дневника семинариста”.