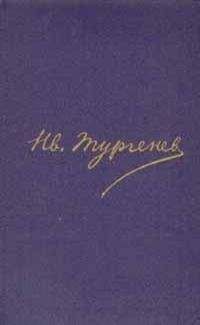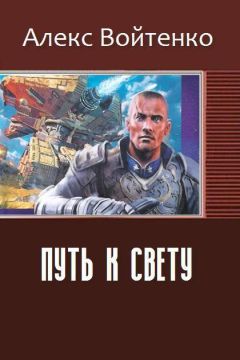Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
Когда появлялись деньги, Бетси приходила к нам на поденную работу, и по этому случаю даже затевалась генеральная уборка, начищалась медь в посудомойне, и весь первый этаж заполнялся паром и запахом мыльной пены. Мне запомнилась мать в старых матерчатых тапочках, в сером платье или, смотря по сезону, в платье из набивного ситца, переднике из мешковины и большом розовом чепчике — вроде тех, что носили деревенские женщины как в Старой, так и в Новой Англии, перед тем как эти две страны разделились. В ее жизни было немного солнечных дней, но голову она покрывала, по ее словам, чтобы не запылились волосы. Она сновала по лестнице с совком для мусора, мусорным ведром, половой щеткой или грязным кухонным полотенцем. Еще задолго до того как я появился на свет, руки у бедняжки распухли и деформировались — ведь она вечно что-то скребла и стирала, и другими я их не знал.
Трудам ее не было конца. Отец вставал, вычищал золу из камина, насыпал в него уголь и разжигал огонь, потому что у матери не хватало для этого сноровки, а потом она готовила завтрак, он же тем временем открывал неподатливые ставни в лавке и там прибирал. Потом следовало вытащить детей из постели, проследить, чтобы они умылись, покормить их завтраком и отправить вовремя в школу. Надо было еще проветрить комнаты, застелить постели, вынести помои, вымыть посуду. Вслед за тем приходилось вступать в борьбу с пылью; в ту пору пылесосов не было; и тут как раз наступал черед скрести неровные деревянные полы, настланные недобросовестным плотником; их тогда не натирали и не полировали. Приходилось ползать на четвереньках и тащить за собой ведро. А если Джо отвозил товар, каждую минуту мог раздаться звонок и появиться покупатель.
Покупатели причиняли беспокойство моей матери, и особенно ей не нравилось, если они приходили, когда она была одета по-домашнему; она поспешно снимала передник, вытирала мокрые руки, приводила в порядок прическу и выбегала в лавку, запыхавшаяся и недовольная, поскольку мой отец часто забывал обозначить цену на нужный товар. Когда же речь шла о принадлежностях для крикета, она совсем терялась.
Отец сам покупал мясо на обед, но мясо надо было еще приготовить и накрыть стол в подвальной кухне. А потом в лавке слышался топот ног мальчишек, возвращавшихся из школы; они неслись вниз по лестнице, и наступал час второго завтрака. Комната была темная, а временами, когда решетку подвального окна загораживали чьи-то панталоны или юбка, становилась еще темнее. С едой тоже не всегда было ладно. Порой мы оставались голодными, хотя картошки и капусты всегда оказывалось слишком много; порой еда получалась невкусная, и тогда отец ворча отталкивал тарелку или напрямик говорил, что он обо всем этом думает. В такие дни мать выглядела всеобщей прислугой, только ей не платили жалованья. Я тоже нередко сетовал, что меня кормят невкусно, и страдал днем от сильных головных болей или болей в печени. Пиво мы пили из бочоночка, что стоял в посудомойне, и даже когда оно немного прокисало, мы все равно его пили. После еды отец закуривал трубку и кухня наполнялась ароматом «Красной Вирджинии», мальчики начинали ссориться или просто глазеть по сторонам, а то и веселиться, первая половина дня, самая трудная, завершалась, и матери оставалось только вымыть посуду в раковине.
Теперь она могла принарядиться. Утреннее платье уступало место аккуратному наряду дамы в чепчике и кружевном переднике. Обычно она сидела дома — в силу необходимости, когда отец уходил играть в крикет, но главным образом потому, что у нее не было дел вне дома и очень много в его пределах. У нее была большая, плохо уложенная корзинка для шитья — когда я был маленьким или когда хорошо себя вел, мне иногда дозволялось приносить ее, и мать принималась латать нашу одежду. Она накладывала огромные заплаты на колени и на локти. К тому же она сама нас обшивала до тех самых пор, пока мы не вошли в возраст и, боясь насмешек школьных товарищей, не запротестовали против ее доморощенных фасонов. Еще она шила чехлы для стульев и покрывала на диван из дешевого мебельного ситца и кретона. Во всем этом, как и в ее стряпне и портновских изделиях, было больше смелости, чем искусства. Все выходило не по мерке, но, во всяком случае, потертость мебели уже не так бросалась в глаза. Выпив чай, поужинав, уложив своих чад в постель и проследив, чтоб они помолились на ночь, она находила еще сколько-то времени для раздумья, чтения газеты, переписки, строчки-другой в дневнике, а потом зажигала свечу и поднималась по неудобной лестнице в свою спальню. Отец, поужинав, уходил из дома поговорить с приятелями о разных мужских делах или поиграть с ними в «Наполеон» в пивном зале гостиницы Белла, причем, как я понимаю, он обычно выигрывал.
О жизни отца в ту пору я знаю очень немного. Вообще-то, судя по всему, он был человеком непутевым и неудачливым, но при этом веселым, с легким характером и значительную часть своей энергии тратил на то, чтобы отгородиться от всего неприятного. Женщинам он нравился и, думаю, знал об этом, но, мне кажется, не изменял жене и не заходил дальше легкого флирта — во всяком случае в Бромли. О любом подобном скандале или хотя бы слухах о нем я знал бы от своих школьных товарищей. Он любил поболтать, стоя у дверей своей лавки, с друзьями-лавочниками, такими же праздными, как и он сам. Их голоса и порой взрывы хохота доносились в лавку, где сидела в одиночестве моя мать.
Он много читал, покупал книги на распродажах, приносил их из библиотеки. Думается, усвоенные в родительском доме религиозные и политические представления постепенно стирались из его сознания. И очень возможно, что ему день ото дня все скучнее становилось разговаривать с матерью, отличавшейся непоколебимыми взглядами и до смешного банальным умом. Она неспособна была постигнуть тайны карточных игр, шахмат, шашек, так что эти развлечения по вечерам им были заказаны. Отец чувствовал ее молчаливое неодобрение и понимал его причины, но понятия не имел, как исправить положение. Должен сказать, я тоже не представляю себе, что он мог бы сделать.
Забота моей матери о внешних приличиях была у нее в крови. Каково бы ни было реальное положение семьи, она твердо стояла на том, что мы должны производить впечатление обеспеченных представителей высшего слоя слуг и арендаторов, и старалась это впечатление, с которым сроднилась, всячески поддерживать. Она полагала, что никому не ведомо отсутствие в нашем доме прислуги и что ей приходится все делать собственными руками. Мне было предписано не отвечать на расспросы и никому не выдавать эту тайну. Снимать невзначай сюртук мне тоже не полагалось, поскольку моя рубашка не отвечала тем ожиданиям, какие мог вызвать сюртук. Она никогда не была рваной, но и чести мне не делала. Это мешало мне участвовать в детских играх.