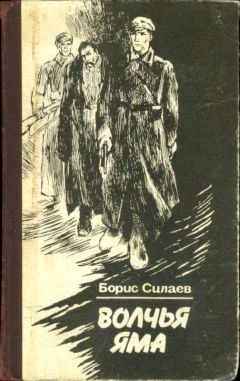Вера Фигнер - После Шлиссельбурга
— Ни к чему твое стихотворение: не нравится мне оно.
Так было до тех пор, пока я не оторвалась от крепости. А когда оторвалась, понемногу природа стала захватывать меня. В близости к ней, в общении не с людьми, а именно с нею, мое «я» получало первое удовлетворение.
Общение с людьми неприятно волновало меня; они возбуждали во мне тревогу, вызывали совершенно неестественное напряжение — и это утомляло. Одного присутствия, хотя бы молчаливого, кого-нибудь не только в непосредственной близости, но и в соседней комнате, было достаточно, чтобы я уже не принадлежала себе и не была спокойна.
Как птичка, заключенная в клетку, начинает трепетать, если к ее клетке приблизить муфту или кусок меха, так приближение кого-либо ко мне приводило меня в тайный трепет.
В Архангельске, как было уже сказано, меня не освободили, а заключили в тюрьму. Я пробыла в ней целый месяц. Губернатор Бюнтинг находил, что это полезно для меня. Бывали случаи, уверял он мою сестру, что люди умирали, внезапно получив свободу.
Заключение в Архангельской тюрьме он считал стадией необходимой, как переход к свободе.
Камера, в которую меня поместили, была изолирована от всякого соседства; кругом была такая же мертвая тишина, как в самые строгие времена в Шлиссельбурге, и этот месяц тишины дорого обошелся моим нервам.
У меня было одно утешение: необыкновенно большое окно, выходившее на восток. Каждое утро я стояла перед ним, созерцая зарю восходящего солнца. Вся восточная часть горизонта пламенела золотом и пурпуром: из того места, откуда должно было показаться солнце, далеко в высь шли полосы, подобные струям легкого розового газа, и эти полосы и струи, бледнея, таяли в бледно-голубом небе.
Нигде потом, даже в Швейцарии с ее богатыми красками, я не видала ничего подобного этим северным зорям, так пленявшим меня за решеткой Архангельской тюрьмы.
Несколько месяцев спустя, в посаде Нёноксе, хорошо было в теплый мартовский день очутиться далеко в поле, среди снегов равнины, раскинутой на берегах Белого моря. Мы шли с Наташей Куприяновой, моей кузиной, приехавшей ко мне со своей матерью всего на 4 дня из далекой Казани. Версты за три от посада было совершенно безлюдно; кругом блестел залитый солнцем снег, и в легком морозе была полная тишина. Хрустел только твердый снег под ногами да чередовались наши голоса, взволнованные свиданием: мой голос, голос человека, еще отрешенного от мира, да голос Наташи, которая, по аберрации памяти, до этого времени рисовалась мне 6-7-летней девочкой, какой я видела ее в последний раз, а теперь была законченной личностью, созревшей в деятельной любви к человеку и человечеству.
А в суровые зимние вечера, чтобы победить бессонницу, которая мучила меня после Шлиссельбурга, я выходила часов в 10 на прогулку с Александрой Ивановной Мороз, сделавшей для меня в то время все, что только мог сделать самый преданный друг. Мы шли вдоль широких уснувших улиц, и впечатление темной северной ночи с ее ярко горящими звездами охватывало меня. Ослепительна была Вега; блистала Капелла, и, широко разметавшись на небе, лежал Орион, сверкая своим звездным поясом.
Когда дело пошло к лету, в мае, в тот же поздний час мы выходили из дому. Но в 10 часов вечера в мае было совершенно светло: в это время в этих широтах заря с зарей сходится. На западе небо горело всеми оттенками оранжевого и ярко-красного, и тут же рядом уже рдело кроваво-красное зарево — предвестник, что вскоре должно выплыть солнце наступающего дня.
Все это — и снеговые поля, и звезды ночи, и заря дня — все было красиво, доставляло эстетическое удовольствие, и тем не менее я еще находилась в состоянии духовного анабиоза; я еще не проснулась к жизни и не имела ощущения свободы. Тяжесть тюремных стен еще сковывала мою душу.
Так было до того времени, когда в Ярославле мы сели на большой пароход «Братья Дерюгины».
На другой день, прекрасный солнечный день, когда мы плыли на всех парах, я вышла утром на палубу. Насколько хватал глаз, я увидала осиянное небо с жемчужными облаками, поля, луга и широкую, могучую Волгу, с детства знакомую Волгу. И когда я вдохнула всей грудью прохладный речной воздух, — по мне с головы до ног прошел трепет. Трепетала душа, трепетало тело, и в первый раз после выхода из заключения всем существом своим я ощутила: «Я — свободна!»
То было буйно-стихийное чувство освобождения от оков, первое пробуждение от летаргии.
Нечто подобное много времени спустя я снова почувствовала, когда в Париже в Grand Opera я слышала романс Чайковского, исполненный артисткой. «О лес, о жизнь, о солнца свет, о свежий дух березы!» — вырывалось из груди г-жи Литвин — не пением, а музыкальным криком. Буйной радостью возрождения, диким торжеством пробуждающихся души и плоти, могуче и призывно звучал этот дивный музыкальный крик и находил отклик в душе присутствующих. Знакомый трепет пробегал по мне беглым холодком, как смутное напоминание момента, пережитого на пароходе, на с детства знакомой, родной Волге.
…Незадолго до отъезда из Шлиссельбурга жандарм принес мне для излечения раненую птицу. Это была галка, крыло которой было перебито. Завися в своем питании от меня, галка по необходимости вела себя как ручная: она ела с руки или клевала хлеб с доски рядом со мной. Прошло дней восемь или десять. Внезапно поведение птицы изменилось: она перестала подходить к корму, совсем перестала есть и видимо чуждалась меня. Целыми часами, неподвижная, она сидела на низкой жердочке у куста смородины в то время, как я читала книгу, сидя на скамье. Я наблюдала за ней, отрываясь по временам от книги. Галка внимательно и озабоченно, не шевелясь, смотрела на небо. Пролетали воробьи; пролетали голуби; реяли в воздухе стрижи, во множестве гнездившиеся по стенам крепости. А галка все смотрела и смотрела. Вдруг она взмахнула крыльями и полетела, поднимаясь все выше, выше в даль.
Я вышла из Шлиссельбурга с крыльями, онемевшими от неподвижности. И вот на Волге, которую я знала с детства, перед картиной благодатной шири, знакомой с малых лет, взметнулись эти онемевшие крылья и распустились в первый раз.
Глава девятая
В родных местах
Мы прибыли в Тетюши на рассвете, оставив семью Мороз на пароходе вместе с моей племянницей, хотевшей прокатиться с ними дальше вниз по Волге. Я же с сестрой Лидией и полицейские высадились на берег: тетя и кузина Куприяновы ждали нас на пристани с экипажем, чтобы ехать за 25 верст в их деревню — Христофоровку.
Тут произошло следующее. Когда я садилась с тетей в коляску, один из полицейских потребовал, чтоб и ему дали место в ней: он, дескать, должен быть неотлучно при мне. Я не соглашалась.