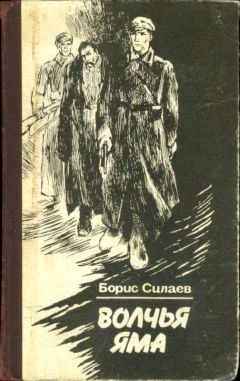Вера Фигнер - После Шлиссельбурга
Глава седьмая
Из Нёноксы в Христофоровку
Еще в марте был поднят вопрос о переводе меня из Нёноксы в Казанскую губернию, в именье моей тетки Е. В. Куприяновой, но из департамента полиции не было никакого ответа. Только в июне пришло, наконец, давно жданное решение, и мы большой компанией двинулись из Нёноксы. Кроме Александры Ивановны, с нами были ее сыновья, приехавшие из Москвы недели за две перед тем, и моя сестра Лидия, которой департамент поручил сопутствовать мне до места назначения. Но того же хотела и Александра Ивановна, прожившая со мной почти полгода. Невольными спутниками были два становых пристава из Архангельска, переодетые в штатское. Их я должна была везти на свой счет.
На этот раз архангельские ссыльные, которых раньше мне удалось убедить не делать никаких демонстраций по поводу меня, устроили мне, без моего ведома, большую встречу, которая в то же время была и дружескими проводами. Из Нёноксы, в сопровождении станового и урядников, мы приехали в село Рикосиху, чтобы, переплыв на пароходе Северную Двину, сесть на другом берегу в поезд на маленькой станции под Архангельском. Так распорядился губернатор, чтоб избежать города, где он опасался демонстрации со стороны ссыльных. Но последние вовремя узнали о распоряжении администрации и ловко провели начальство.
Когда, по приезде в Рикосиху, мы отправились пешком к пристани, там уже стоял пароход, который должен был принять нас. С парохода нам навстречу двигался кортеж: правитель канцелярии губернатора, исправник и полицейские, составлявшие их свиту.
Каково же было наше удивление и смущение полиции, когда к берегу, прежде чем мы добрались до него, причалил другой пароход, и с него высыпала большая толпа женщин и мужчин, направившихся к нам. Это были архангельские ссыльные: адвокаты и студенты, ученые и рабочие, их жены, учительницы, фельдшерицы и др., зафрахтовавшие целый пароход со специальной целью встретить меня в Рикосихе и проводить до поезда.
В одну минуту чины полиции были оттеснены: ссыльные плотным кольцом окружили меня, и начались дружеские излияния, поцелуи и рукопожатия. Один из прибывших, опытный фотограф, имел с собой прекрасный аппарат; по общему желанию, меня с моим спутником — молодым сенбернаром Лучком — поместили в середине полукруга, образованного ссыльными, и фотография запечатлела памятную сцену. Полиция волновалась, но ее было меньше, чем нас, и мы были господами положения. Исправник и правитель канцелярии спешили поскорее увести меня и торопили взойти на пароход. Но как только мы сделали это и пароход с начальством отчалил, двинулся вслед и пароход со ссыльными. Большое красное знамя развернулось над их головами, и на пароходе раздалась русская «Марсельеза». Наш пароход был большой, с лучшим ходом, но напрасно начальство думало избежать преследователей: маленький пароход ссыльных не отставал. Рабочие-кочегары, посвященные в дело, гнали на всех парах, и как только мы сошли на берег, вышли и ссыльные. Снова полиции пришлось стушеваться, и, окруженные друзьями, растянувшись в длинную процессию, мы направились к вокзалу. Правитель канцелярии изо всех сил упрашивал ссыльных оставить меня и удалиться в город. Он увещевал, советовал и грозил, что губернатор разошлет всех в глухие села. Ссыльные не уступали. В конце концов Гольдштейн, ведший переговоры с правителем канцелярии, пошел на компромисс: вся компания должна была на вокзале напиться чаю с отъезжающими, а затем, не дожидаясь поезда, проститься и разойтись по домам.
Так и кончилось это маленькое братское торжество.
Из Архангельска ссыльные послали телеграмму в Вологду товарищам, что я еду. Вечером, подъезжая к этому городу, мы стали приготовляться к новой встрече, и я немало волновалась в ожидании новых приветствий. Между тем на вокзале было совершенно пусто, и мы немало смеялись над напрасным предвкушением торжеств. Оказалось, телеграмма была предусмотрительно задержана администрацией и вовремя по назначению не дошла.
В Ярославле, чтоб ехать дальше по Волге, пришлось ждать парохода. Здесь на пароходной конторке нас ожидала новая встреча с родственниками и друзьями; приходили ссыльные из города; из Москвы приехали муж Александры Ивановны и наш общий старый друг — Вера Дмитриевна Лебедева; из Петербурга приехала проститься со мной Марья Михайловна Дондукова-Корсакова, которую после этого я уже не видала.
В увеличенном составе мы сели на пароход «Братья Дерюгины», причем мои переодетые становые чуть не силой хотели занять каюту 1-го класса рядом со мной. Любезный капитан парохода, узнав, кого везет, горячо приветствовал меня и предлагал высадить полицейских на первую необитаемую отмель, какая встретится на пути. Этим господам из «дворян», как они себя аттестовали, солоно досталось это путешествие до Тетюш: молодые Морозы, только что кончившие гимназию, все время отчаянно школьничали и потешались над «шпиками». Поминутно они фотографировали их во всевозможных позах и всему пароходу открыли их инкогнито. Те не знали, куда им деваться от шалунов, и горько жаловались, что молодежь «и за людей их не считает».
Глава восьмая
Пробуждение
Ничто по выходе из Шлиссельбурга не производило на меня такого впечатления, как вода и небо, которых на просторе я не видала так много лет.
На пути в Архангельск мы переезжали две великих реки: Волгу у Ярославля, а под Архангельском Северную Двину. В крепости я видела воду только в баке у водопровода, из которого брала воду для поливки растений. Теперь этой воды было много, изумительно много, и она тянула меня к себе: когда в лодке мы переезжали Волгу, я не отрывала глаз от воды и думала все время, как хорошо бы медленно и спокойно со всей лодкой погрузиться в эти воды на самое дно реки.
За несколько дней до отъезда из Шлиссельбурга Морозов передал мне стихотворение, написанное по поводу моего освобождения. Стихотворение описывало радости, ожидающие меня впереди. То были прежде всего радости общения с природой: я увижу горизонт свободный, не скрываемый каменной оградой, увижу ночное небо с его созвездиями, зеленые луга и нежные всходы нив, услышу шелест травы и шум леса.
Я рассердилась. Меня мучил страх жизни и страх людей, угнетала скорбь за себя и скорбь за товарищей: за себя — потому что я теряю тех, к кому привязалась за время заключения, скорбь за товарищей — потому что они остаются в крепости. И эти два страха и две скорби, то разом, то чередуясь и переплетаясь, владели мной, то осознанные и определенные, то смутные, затаенные в глубине бессознательного. Какой тут горизонт и ночное небо? Заря утренняя и заря вечерняя?! Ни солнце, ни звезды не шли на ум, и с досадой я сказала Морозову: