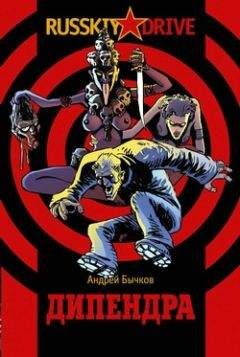Елена Морозова - Мария Антуанетта
В то время Версаль являл собой подобие Олимпа: Вакх с его буйными радостями плоти господствовал наверху, в апартаментах короля, Венера и Грации обретались в покоях дофины, Вулкан царил в личных апартаментах дофина, Минерва — в покоях Месье и Мадам Прованс. Ближе всех к вершине стояли дофин и дофина; на них пока еще не упали отблески плачевной славы царствования Людовика XV; народ радовался, видя своих будущих властелинов, а особенно будущую королеву — такую юную, прекрасную, добрую, отзывчивую. Но на безоблачном горизонте молодой пары уже проступили темные точки, предвещавшие будущую грозу. После визита Их Высочеств в столицу желчный аббат Денуайе, бывший иезуит, не простивший Шуазелю изгнания его ордена из Франции, писал: «Хотелось бы, чтобы все королевы походили на супругу Людовика XIV или Людовика XV, которая не знала иных страстей, кроме как страсть к благотворительности. Я же вижу перед собой только ту, кто готовит явить народу, издавна известному своим непостоянством, зрелище неслыханных потрясений. Ей говорят лишь о ее будущем величии, ей обещают лишь удовольствия, она уже видит мир у своих ног, любострастие перед собой на коленях, удачу в покорных своих служанках. Эту иллюзию посланцы правящей при нашем дворе клики внушили ей, когда она еще жила при том дворе, где родилась… Королева, коронованная лишь для собственного развлечения, является гибельным приобретением для народа, призванного оплачивать ее капризы». Беспокойство одолевало также Марию Терезию: «Как бы лестно ни было слышать восторженные рассказы о въезде дочери в Париж, мне эти успехи доверия не внушают, принимая во внимание непостоянство короля, окруженного со всех сторон коварными и интригующими придворными. Именно поэтому я как никто желаю долголетия королю, чтобы моей дочери как можно дольше не пришлось принимать участие в управлении Францией. Она юна, неопытна и склонна к расточительству…» Один беспокоился о народе, другая — о будущем дочери, однако оба предчувствовали, что будущее королевы Марии Антуанетты не будет безоблачным.
Первую грозу сулили слухи о том, что дофина слишком много времени уделяет «своему братцу Шарло», иначе говоря, герцогу д'Артуа. Дойдя до дофины, они вызвали раздражение и слезы: ведь ее обвиняли в том, о чем она до сих пор не имела никакого представления, хотя уже более трех лет состояла в браке. Обида, досада, жажда любви, вполне естественная для красивой молодой женщины, переставшей понимать, муж ли ей уже Людовик или все еще не муж, а если муж, то почему она до сих пор не забеременела, расшатывали нервы впечатлительной дофины и заставляли придумывать все новые и новые шумные развлечения. «Развлечения не мешают мне размышлять о том, что меня ожидает», — словно оправдываясь, писала она матери.
Развлечения постепенно вытесняли из жизни Марии Антуанетты все иные занятия. Если апатичный дофин только на охоте становился сильным, энергичным и ловким, а общество утомляло его, то его жена в обществе чувствовала себя как рыба в воде. В ответ общество осыпало ее комплиментами, хвалами и лестью, к которым она начала привыкать, считая их в порядке вещей и забывая, что от любви до ненависти всего один шаг. «…Обилие лести, собственная лень и никакого желания сосредоточиться» — так определила Мария Терезия трех главных врагов дочери. Но дочь их не замечала, как старалась не замечать укоров матери. Наблюдательный Мерси подметил, что дофина «склонна к зависимости там, где следовало бы проявить характер»: окружив себя веселой компанией придворных, она постепенно все больше зависела от тех, кто умел ее развлечь. Муж к числу этих избранных не относился — муж охотился. Судя по его охотничьему дневнику, за 13 лет он настрелял 189 254 штуки дичи и убил 1274 оленя, не считая мелкой птицы. Самым крупным достижением в истреблении мелких пернатых следует считать день, когда он подстрелил 200 ласточек.
Мария Антуанетта все реже ездила на охоту и все чаще — в Париж, ибо король разрешил ей ездить в столицу запросто, без пышного кортежа, в сопровождении небольшого эскорта и кого-нибудь из королевской семьи или знати. Город широко раскрыл ей свои объятия, она упивалась его любовью, восторги парижан возвышали ее и придавали уверенности в себе. Казалось, за те 100 лет, что государство в лице монархов обреталось в Версале, парижане соскучились по своим повелителям и теперь обрушили на них нерастраченный запас восторгов. Париж стал для Марии Антуанетты новым миром, миром свободы и веселья, миром, где «счастливые часов не наблюдают», а значит, не подчиняются ни распорядку, ни этикету. «Я с каждым днем все лучше понимаю, что вы, дорогая матушка, сделали для моего устройства. Я была самой младшей, вы же поступили со мной как со старшей; душа моя исполнена нежнейшей признательности», — писала Мария Антуанетта. Неприятные вопросы, которые задавала императрица, она все чаще обходила стороной…
Особенно бурный прием парижане оказывали дофине в театрах. Увидев ее в ложе, они вскакивали и устраивали ей овации. Актеры тоже старались сделать приятное юной паре. Однажды, когда в «Комеди Франсез» давали «Осаду Кале», знаменитая мадемуазель Вестрис, повернувшись к королевской ложе, завершила свой монолог, обращаясь непосредственно к наследнику престола:
Французу мило видеть в принце брата своего,
Который, сыном Франции рожденный, отцом ей станет!
Дофин смутился, а зрительный зал, поняв намек актрисы, разразился бурными несмолкаемыми аплодисментами. Пьеса позволила их высочествам вернуть долг благодарности: по завершении монолога, восхвалявшего неприметных подданных, в трудную минуту спасающих своих государей, дофин и дофина встали и яростно зааплодировали актерам. В такие минуты Мария Антуанетта чувствовала себя по-настоящему счастливой; грациозно кивая и раздавая улыбки, она думала, что быть королевой Франции вовсе не так страшно, как ей казалось поначалу.
А чего стоили поездки в Сен-Клу, где дофина, смешавшись с толпой, гуляла по ярмарке и даже посещала танцевальный зал! «Да это же настоящая революция!» — воскликнул кто-то из современников. В сущности, он был прав: это была придворная революция. Сознание того, что она дерзко нарушает предписания этикета, наполняло Марию Антуанетту радостным чувством победительницы. Она не осознавала, что сложная система протокола, схожая с театральным действом, служила своего рода оптической преградой, ширмой, ничего не скрывавшей от зрителей, но придававшей величие и абсолютный характер любым, вплоть до естественных отправлений, действиям коронованных особ. В спектакле под названием Этикет, как в комедии дель арте, каждому отводилась своя неизменная роль, и любое отступление от нее воспринималось как нарушение. Борясь с этикетом, Мария Антуанетта постоянно стремилась забыть свое королевское амплуа, разрушая тем самым невидимую преграду между собой и подданными. Не умея и не желая исполнять свою роль, доставшуюся ей явно по ошибке (ставшей для нее роковой), она собственными руками убирала ширму, отделявшую ее от зрителей; а те, разглядев в ней дурную актрису, принялись метать в нее отравленные стрелы клеветы. Первые брызги грязи попали на белое платье дофины из памфлетов против Дюбарри. Не замечая, как на безоблачном горизонте заклубились облака, дофина видела только ликующую толпу и отвечала ей милой улыбкой.