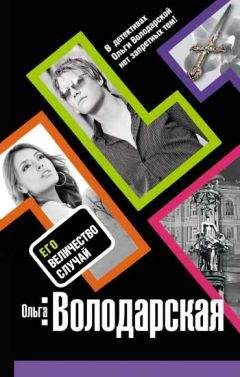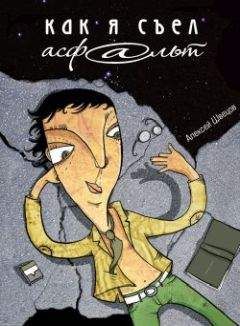Реми Гурмон - Книга масок
Жаба уселась на свои задние ляжки (они так похожи на человеческие), и в то время, как улитки, слизни и мокрицы убегали при виде своего смертельного врага, сказала следующее:
«Выслушай меня, Мальдорор, заметь мое лицо, спокойное, как зеркало… Я простая обитательница тростников, но благодаря моему соприкосновению с тобой, обращая внимание лишь на одно прекрасное в тебе, мой разум прояснился, и я могу говорить… Я предпочла бы смежить веки, не иметь ни рук, ни ног, уничтожить человека, только бы не быть тобою… Я ненавижу тебя… Прощай, не надейся встретить еще раз жабу на твоем пути. Ты виновник моей смерти. Я ухожу в вечность, чтобы вымолить тебе прощение».
Если бы психиатры стали изучать эту книгу, они несомненно причислили бы ее автора к категории одержимых манией величия. Во всем мире он видит только себя и Бога – и Бог его стесняет. Но наряду с этим возникает вопрос, не был ли Лотреамон иронистом в высшем смысле этого слова[71], человеком, чье презрение к людям заставило его симулировать безумие, более мудрое и более прекрасное в своей несвязности, чем посредственный разум. Есть безумие гордости и есть исступление ничтожества. Сколько уравновешенных честных страниц хорошей и ясной литературы я отдам за этот клубок слов и фраз, в котором поэт как бы хотел похоронить самый разум. Я взял этот отрывок из его экстравагантных «Poésies».
«Душевные волнения, тоска, извращение, смерть, исключения моральные или физические, дух отрицания, одичание, самовнушенные галлюцинации, муки, разрушения, ниспровержения, слезы, ненасытность, порабощения, мучительное воображение, романы, то, что неожиданно, то, чего не надо делать, химические странности таинственного ястреба, стерегущего падаль какой-нибудь умершей иллюзии, ранний и недоношенный опыт, неясности с клопиной броней, ужасная мономания гордости, прививки глубокого оцепенения, надгробные слова, зависть, измена, тирания, безбожие, раздражения, язвительность, агрессивные выходки, безумие, сплин, небеспричинный страх, странные беспокойства, то, что читатель предпочел бы не испытать, гримасы, нервы, кровавые испытания, которые доводят логику до изнеможения, преувеличения, отсутствие искренности, пиления, пошлость, все мрачное, все траурное, деторождения, которые страшнее смерти, страсти, клан романистов из категории присяжных заседателей, трагедии, оды, мелодрамы, бесконечные крайности, освистанный безнаказанно рассудок, запах мокрой курицы, пресность, лягушки, осьминог, акулы, самум пустыни, все, что сомнамбулично, подозрительно, все ночное, снотворное, бессонное, гнойное, тюленеобразное, двусмысленное, слабогрудое, спазматическое, возбуждающее похоть, анемичное, кривое, гермафродитное, незаконнорожденные, альбиносы, педерасты, чудеса аквариума и женщина с бородой, часы, насыщенные безмолвным унынием, фантазии, язвительность, чудовища, деморализующие силлогизмы, грязь, то, что не рассуждает, как ребенок, отчаяния, духовная отрава, надушенный принц, бедра камелии, виновность писателя, который мчится по склону небытия и ликующим голосом выражает презрение самому себе, угрызения совести, лицемерия, неясные перспективы, грызущие душу своими невидимыми зубами, серьезное оплевание священства, черви и их вкрадчивое щекотание, безумные предисловия, подобные предисловиям Кромвеля, Mademoiselle Мопен и Дюма-сына, бессилье, дряхлость, богохульство, асфиксии, задушения, бешенство… Глядя на всю эту свалку нечистот, которые стыдно назвать, я нахожу, что пора, наконец, реагировать на все, что оскорбляет нас и властно пригибает к земле».
Мальдорор (Лотреамон) точно судит сам себя, когда заставляет загадочную жабу обратиться к нему со следующими словами: «Твой ум настолько болен, что ты сам не замечаешь этого и считаешь естественным, когда губы твои произносят безумные слова, исполненные адского величия».
Тристан Корбьер
Читая Корбьера, Лафорг набросал о нем несколько беглых, но чрезвычайно решительных заметок. Например: «Богема Океана. Насмешливый и плутоватый. Едкий, лаконичный. Стих под ударом хлыста. Его крик пронзителен, как крик чайки. Неутомим, как она. Без культа эстетики. Не поэзия и не стихи, почти не литература. Чувственный. Но плоти у него нет. Мелкий жулик и байронист. Из всех поэтов наиболее освободившийся от поэтического словаря. Пластического интереса его поэзия не представляет. Все значение, весь эффект в ударе хлыстом, в гравировке, в каламбуре, в скачках и романтическом лаконизме. Хочет быть непонятным и не поддающимся классификации. Не хочет ни любви, ни ненависти. Коротко говоря, чужд всякой стране, чужд обычаям по ту и другую сторону Пиренеев».
Все это, бесспорно, справедливо. Корбьером всегда руководил демон противоречия. Он считал, что от других людей надо отмежеваться противоположными мыслями и поступками. В его оригинальности есть много деланного. Он ухаживал за ней, блуждая мыслями между небом и землею, как женщины ухаживают за цветом своего лица. Он спускался на землю, чтобы вызвать крик всеобщего изумления: дендизм в стиле Бодлера.
Но переделывать себя, к счастью, можно только в полном согласии со своими инстинктами и наклонностями. От природы Корбьер был уже тем, чем стал впоследствии: Дон Жуаном оригинальности. Оригинальность – единственная женщина, которую он любит. Женщину вообще он иронически называет: «L'éternelle madame»[72].
У Корбьера много ума. Но это ум завсегдатая мон-мартрского кабаре и гуляки прежних времен. Весь его талант – игра остроумия: хвастливого, напыщенного, благерного, намеренно дурного вкуса, с проблесками гения. Он похож на пьяного, но, в сущности, он только надуманно неловок. Корбьер обтесывает камни, чтобы сделать из них нелепые четки, чудесно исцеляющие безделушки, требующие необыкновенного терпения. Но морские камушки он большею частью оставляет в нетронутом виде, потому что море он любит с бесконечною наивностью, потому что жажда парадоксальности часто сменяется у него экстазом поэзии и красоты.
Среди необычных стихов его «Les amours jaunes»[73] есть очень много неприятных, но и много прекрасных, настолько, впрочем, двусмысленных, настолько специальных, что их не всегда можно сразу оценить. Только вчитавшись, решаешь, что Тристан Корбьер, как и Лафорг, которого можно было бы назвать его учеником, один из талантов, не поддающихся никакой классификации. Их нельзя отрицать. В истории литературы они являются ценными исключениями, единичными даже в галерее странностей.
Вот две поэмы Тристана Корбьера из его «Amours jaunes», забытых его последним издателем.
Paris nocturne