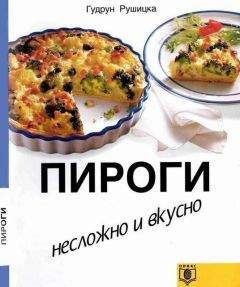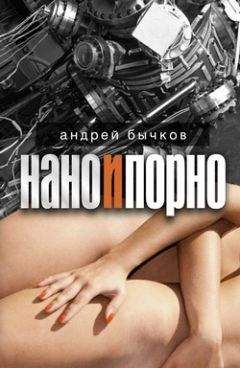Андрей Сахаров - Воспоминания
Перельман был большой энтузиаст научной популяризации. Кроме писания книг, которые представляют собой его главную заслугу, он также организовал в Ленинграде «Дом занимательной науки» (в этом же здании жила Ахматова, это «Фонтанный дом»). В Ленинграде Перельман и погиб во время блокады.
Затем я прочитал книги Шарля Лезана, Игнатьева и другие, немного поздней – замечательные книги Радемахера и Теплица «Числа и фигуры» и Джинса «Вселенная вокруг нас», оказавшие на меня большое влияние, Макса Валье «Космические полеты как техническая возможность», в десятом классе – «Анализ» Р. Куранта с весьма оригинальным порядком изложения: интегральное исчисление раньше дифференциального – и многое другое, всего не упомнишь.
Я читал также книги по биологическим наукам. Самое сильное впечатление на меня произвели «Охотники за микробами» Поля де Крайфа (в первом издании автор был назван Поль де Крюи; может, так правильней). Это очень живо написанная книга о микробиологах, начиная с Левенгука, об огромных достижениях науки в борьбе с инфекционными заболеваниями и о героическом труде исследователей, который привел к этим успехам. Какое-то время я думал, не избрать ли мне эту специальность. В это же время я впервые узнал о генной теории наследственности и с недоумением и возмущением читал в «Правде» антименделевскую статью Митина, будущего академика-философа. Это была моя первая встреча с «лысенковской» лженаукой.
Одно лето я успешно собирал окаменелости, прочитав какую-то книгу по палеонтологии. Еще одной из числа биологических книг была «Занимательная ботаника» Цингера. Цингер – автор известного учебника по физике; ботаникой он занимался как любитель, был папиным знакомым. В середине 20-х годов он уехал с семьей за границу для лечения туберкулеза – тогда это было возможно. Через несколько лет он там умер. Цингер оставил папу своим представителем в издательских делах, я не знаю, на каких условиях, но помню, что папа очень этим тяготился. Сын Цингера – Олег – был художник. Впоследствии он получил известность как мастер рекламы. Я (еще мальчиком) чем-то ему понравился, и он несколько раз присылал мне свои альбомы с рисунками животных; возможно, это была форма как-то проявить благодарность к папе. Мне эти альбомы очень нравились, некоторые из них сохранились до сих пор.
У меня было достаточно времени для опытов и чтения, т. к. школьная программа давалась мне сравнительно легко, особенно точные науки, доставляющие главные трудности большинству учащихся. Немецкий язык, тем более что я в 9-м классе опять занимался дома, тоже не был проблемой. У меня возникли трудности с черчением, я просиживал целые воскресенья над чертежами и портил их в конце дня. Но потом я преодолел этот барьер (большую роль сыграли несколько «технологических» советов, полученных от Кати, которая некоторое время училась в архитектурном институте). Я стал сдавать чертежи только на «5». В 7-м классе я получил «неуд» по пению, но в общий аттестат его не записали.
По гуманитарным предметам я учился без блеска, однако вытягивала общая интеллигентность. Тетя Женя несколько месяцев занималась со мной диктантами, и таким образом моя грамотность была доведена до должного уровня.
Десятый класс я окончил «отличником» – официальный термин того времени (основные предметы – пятерки, остальные – четверки). В нашем – единственном выпускном – классе были два отличника: я и Костя Савищев (или Савущев, я не помню точно). Он после школы пошел в военное учебное заведение, а потом в военную разведку. После школы я видел его один только раз, уже через 25 лет после окончания войны. Мне показалось, что он пришел ко мне поговорить и поделиться своими переживаниями (это было в 70-м году), что он все еще не пережил в себе тех ужасов, которые принесла в его жизнь война, все еще только возвращается к настоящей мирной жизни. Он не оставил адреса и больше не появлялся.
Как отличник я имел право поступить в вуз без экзаменов.
Осенью 1938 года я поступил на физический факультет МГУ, тогда, вероятно, лучший в стране. Уже потом от своих однокурсников я наслушался об ужасах приемных экзаменов, об огромном конкурсе; я думаю, что, верней всего, я бы не прошел этого жестокого и часто несправедливого отбора, требовавшего к тому же таких психологических качеств, которыми я не обладал. Среди поступивших по конкурсу в нашей группе было два молодых человека, поработавших около 2-х лет до вуза на автозаводе им. Сталина (теперь им. Лихачева). Конечно, рабочий стаж давал им некоторые преимущества, но оба они были и сами по себе очень способными и работящими, организованными. Их звали Коля Львов и Женя Забабахин.
Университетские годы для меня резко разбиваются на два периода – три довоенных года и один военный, в эвакуации. На 1–3 курсах я жадно впитывал в себя физику и математику, много читал дополнительно к лекциям, практически больше ни на что времени у меня не оставалось, и даже художественную литературу я почти не читал. Я с большой благодарностью вспоминаю своих первых профессоров – Арнольда, Рабиновича, Нордена, Млодзеевского (младшего), Лаврентьева (старшего), Моисеева, Власова и других. Большой четкостью и ясностью отличались лекции Тихонова – пожалуй только, они были слишком элементарны для физиков. Очень много давали нам семинарские занятия Клетенника, Эльсгольца, Шаскольской и других. Особенно часто я вспоминаю доцента Бавли, пунктуального и слегка чудаковатого. На втором месяце войны Бавли вышел за продуктами из университета. Когда он стоял в очереди у киоска, неожиданно, без объявления воздушной тревоги, была сброшена немецкая бомба, разрушила дом, расположенный рядом, и убила многих находившихся в очереди. Погиб и Бавли.
Профессора давали нам очень много дополнительной литературы, и я каждый день по многу часов просиживал в читальном зале. Обычно после лекций я или забегал домой пообедать (жил рядом), или обедал в университетской столовой, а потом сидел в читальне до 8–10 часов. Вскоре я стал пропускать ради читалки более скучные лекции (тогда не было обязательного посещения лекций). Около читального зала возникал студенческий «клуб», одни выходили покурить, другие просто поразмяться, но я разговаривал, как я помню, исключительно о научных предметах.
Несколько штрихов для характеристики времени. У студентов была забава – подкрасться вдвоем сзади к зазевавшемуся и перевернуть его в воздухе. Я тоже иногда был жертвой шутки. Однажды вышла осечка – один из переворачиваемых студентов разбил ногой бюст Молотова, из этого возникло нечто вроде политического дела с перекрестными допросами. Только наличие у «виновника» каких-то влиятельных заступников спасло его от крупных неприятностей.