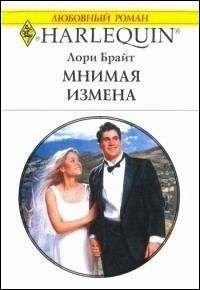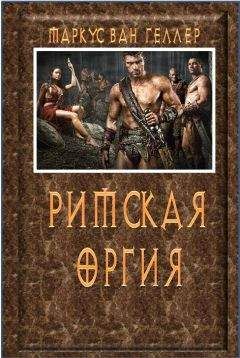Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
Как только здесь были окончены все первоначальные формальности моего приема и мои карманы были обысканы городовыми, пристав сказал вызванному им околоточному:
— Отведите их в отделение для политических!
Такое название несколько уменьшило мое первоначальное огорчение. Значит, здесь все же есть политическое отделение, а не одни общие камеры для пьяных и воров! Мы с околоточным вышли задним ходом во двор, весь окруженный высокими многоэтажными зданиями, и, пройдя поперек, поднялись по лестнице в самый верхний из этажей. Там была большая комната, из стены которой торчал медный кран и под ним железная раковина для приема воды, а налево от нее полутемный коридор, по которому ходил часовой.
Здесь нас встретил служитель, отставной солдат времен Николая I, с седой короткой щетиной вместо бороды на морщинистом подбородке и щеках.
— Который номер свободен? — спросил его околоточный.
— Первый! — ответил солдат и, войдя в коридор, отворил в нем дверь в первую комнату налево.
Она была очень небольшая. Кровать с матрацем и подушкой, покрытая серым войлочным одеялом, стояла у ее правой стены. Прямо под окном, находящимся значительно выше, чем в обыкновенных комнатах, стояли простой деревянный столик и табурет. Окно было с железной решеткой, помещавшейся, как и всюду, снаружи, по ту сторону рам.
— Разденьтесь, пожалуйста! — сказал мне околоточный. — Вас здесь снова должны обыскать.
Я снял с себя все и положил на кровать. Служитель осмотрел карманы и складки моего платья и белья, затем оба удалились, и большой тяжелый тюремный замок вновь загремел за моей дверью.
Я тотчас же встал у самой двери и прислушался. Теперь я более не опасался, что меня начнут пытать.
«В частях только бьют, а не пытают!» — повторил я сам себе несколько раз для того, чтобы окончательно убедиться в своей безопасности в ближайшие недели.
И это подействовало.
Приподнятое, готовое сейчас же на всякую жертву и муку, настроение улеглось. Но разочарование стало тем сильнее. Ни в одном романе я не читал еще, чтобы героя сажали в часть, и, если я убегу отсюда, мне нечем будет гордиться. «Бежал из Коломенской части!» — это звучит совсем уже не так громко, как «бежал из Петропавловской крепости» или «из темницы Третьего отделения», где я сидел до сих пор. Нет! Куда хуже! Но все же надо попытаться и осмотреть местоположение!
Услышав, что за дверью тихо и в просверленное в ней круглое отверстие, закрытое сзади клапаном, никто не смотрит, я подставил табурет к окну и взглянул в него. Оно было без матовых стекол и с большой форточкой. Подо мной на значительной глубине был замкнутый со всех сторон небольшой дворик, и я смотрел в него из своего окна, как в колодезь. Там было пусто, лишь изредка проходили городовые. Вверху расстилалось серое небо, и, кроме неба, да дворика, да пустынного канала налево между стенами здания, ничего не было видно.
Я опустился и приложил ухо к стене за кроватью. Там раздавались по каменному, как и в моей камере, полу гулкие быстрые шаги: шесть назад и шесть вперед. Где-то далее перемешивались с ними более слабые шаги, и, наконец, можно было отличить еще совсем мелкие, очевидно женские, по восьми взад и восьми вперед.
«Это товарищи по заточению! — подумал я. — Как бы войти с ними в сношения?»
8. Тук, тук, тук!
Современный читатель, давно уже знающий, что во всех темницах политические заключенные перестукиваются друг с другом, едва ли поверит, что я, полгода действовавший со своими друзьями в Москве и почти полгода живший за границей, ничего и не подозревал об этом. А между тем это было так! Ведь это мы изобрели и ввели в практику перестукивание, хотя, может быть, оно употреблялось и до нас декабристами, петрашевцами и т. д.[9] Но они не оставили традиции, и мы должны были все изобретать самостоятельно и вновь.
До нас политические заключенные были так редки, что их можно было рассаживать далеко друг от друга и этим достигать полной изоляции. Никогда ни в России, ни за границей в наших многочисленных вечерних или дневных разговорах о заточенных не упоминалось в моем присутствии о их перестукивании, и никто из моих товарищей в Москве или за границей, по-видимому, и не думал о возможности такого способа сношений. Правда, в Петропавловской крепости стук уже практиковался почти целый год до моего ареста, хотя и своеобразным способом: там стены всех камер были обиты тогда толстым войлоком, чтобы узники в отчаянии не могли разбить себе головы о каменные стены, и стучать в них было невозможно. Но шаги узников были слышны даже через камеры, и заключенные сначала переговаривались там шагами, делая для «а» один шаг, для «б» два и так далее и останавливаясь на более долгий промежуток при переходе к новой букве. Так они в долгие томительные дни узнавали этим медленным путем фамилии соседей, положение следствия или делились с товарищами случайно добытыми новостями. Потом мало-помалу они условились друг с другом и об употреблении более удобной азбуки.
Но я, никогда еще не сидевший в крепости и никогда не имевший непосредственных сношений с сидевшими там или с навещавшими их, и не подозревал об этом способе разговора.
«Как бы войти в сношения с соседями?» — ломал я себе голову, стараясь найти в своих стенах какую-нибудь щелку. Но ничего подобного не было.
Я лег на свою постель и закинул руки за голову. Сильный голод мучил меня. Утром я выпил только свои два стакана чаю с маленьким розанчиком в темнице Третьего отделения, затем отказался пить чай на допросе, а к двум часам меня привезли сюда. Никто не приносил мне в этот день ничего есть, — казалось, об этом забыли совсем. Сильный голод так и щемил у меня под ложечкой, и чем далее, тем мучительнее делались его приступы. Я старался отвлечь свои мысли, думая о далеких друзьях, старался представить, что они теперь делают, но это помогало мало, голос физической природы становился сильнее всего остального, он заглушал все. Время казалось бесконечно длинным.
Легкое чирикание, как стук древоточца, послышалось где-то в глубине стены. Я сразу насторожился.
«Здесь, — думал я, — в каменном здании не может быть древоточцев, а между тем их постукивание ясно слышно где-то в стенах. Уж не делают ли друзья на воле подземный подкоп под эту темницу? Они пробьют ее стены, войдут в коридор, откроют наши камеры, и я со всеми товарищами снова буду на свободе!»
Сильно ослабевший от голода, я встал и, подойдя по очереди к каждой из четырех стен, прикладывал к ним уши, но никак не мог определить, где работают древоточцы. Казалось, где-то глубоко внизу.