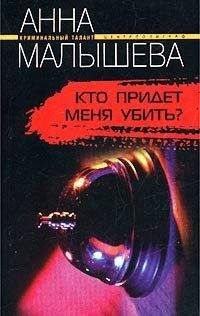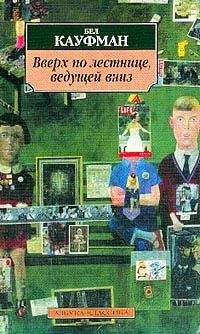Николай Гедда - Дар не дается бесплатно
В ту весну я уже был обручен с Надей Сапуновой, но жил я не у ее родителей возле Булонского леса, а в отеле. Вообще-то мы должны были венчаться в мае, но в русской церкви нам посоветовали назначить другое время: пасха была в тот год очень поздняя, а согласно старой русской традиции, не годилось справлять свадьбу в дни поста.
Мы выбрали 5 июля, поскольку Надя считала, что пять для нее — счастливое число.
За несколько дней до свадьбы у меня был первый концерт в Париже. Я пел из «Осуждения Фауста» в прекрасном дворцовом саду в Пале-Рояле. Концерт прошел просто чудесно, отзывы критики были в подавляющем большинстве прекрасные.
Но вот подошел день свадьбы. Бракосочетание проходило в две стадии. Сначала, накануне, мы регистрировали брак у мэра в Булони, а потом уже была церемония свадьбы по греко-православному обряду в русском соборе на улице Дарю, рядом с площадью Звезды, в самом сердце Парижа.
Для русской эмигрантской среды наша свадьба была гигантским событием. Родители Нади позвали около семидесяти друзей и знакомых. С моей стороны были, разумеется, родители и мой приятель по гимназии Свен Г. Хансон (это его мать когда-то так ревностно призывала меня найти себе учителя пения). Свен ассистировал на церемонии — держал свадебный венец над нашими головами, как положено по ритуалу. Церковь была набита битком. После этого родители Нади устроили празднество в банкетном зале отеля. Мы с Надей, улучив удобный момент, сбежали в парк Фонтенбло, недалеко от Версаля. Мы остановились в гостинице и там провели свою брачную ночь.
Через несколько дней мы отправились в Швецию, у меня были концерты в Стокгольме и Гётеборге. В Зеленом Лунде мне аккомпанировал мой старый учитель Курт Бендикс, а в Лисеберге — Надя. Мы жили у моих родителей на Грувбакене, и все прекрасно уживались в нашей тесноте.
В Париж мы вернулись в конце августа. Все свободное время уходило на поиски небольшой квартиры, которую мы могли бы называть нашим собственным домом. Но что-нибудь подходящее найти было очень трудно. Наконец я получил финансовую помощь от граммофонной компании, аванс за будущие заработки стал первым взносом за маленькую виллу в пригороде Вирофле, между Парижем и Версалем.
Мы любили наш маленький домик, хотя он не был особенно комфортабельным. Но зато сад был просто великолепный, а окрестности дышали покоем и красотой. Рядом проходила электричка, которая везла прямо в центр Парижа. Все путешествие занимало двадцать минут — я выходил на вокзале Сен-Лазар, а через четыре минуты ходьбы входил в «Гранд-Опера».
Новый директор Оперы Морис Леман был режиссером новой постановки «Оберона», где я пел партию Гюйона Бордоского, прекрасного героя-воителя, посещающего самые экзотические места. Меня разодели как сказочного принца. Партнершей была известная в то время бразильская певица Константина Арауйо, ее одели в платье, унизанное жемчугами, разукрасили страусовыми перьями.
У Арауйо был очень сильный, но, к сожалению, некрасивый голос. Субреточную партию исполняла одна француженка, на репетиции она прервала бразилианку восклицанием: «Если госпожа Арауйо и впредь думает орать таким же образом, я отказываюсь в этом участвовать». Константина Арауйо посмотрела на ту с презрительной ухмылкой и ответила: «Ах, миленькая, я ведь пою тем голосом, который у меня есть. А у вас, французов, среди певцов одно дерьмо!» Француженка застыла на месте, лишась дара речи, но через несколько мгновений тишины репетиция продолжалась как ни в чем не бывало. В тот раз я впервые в жизни был свидетелем жестокого соперничества звезд в оперном мире.
Оперный театр был в то время огромный, пыльный и неимоверно суетливый. Во время репетиций по сцене повсюду носилась и хлопотала тьма народу. Нельзя было понять, что им всем там нужно, все было вперемешку — артисты кордебалета, хора, статисты, служащие и ассистенты со своими собственными ассистентами в придачу. Ни в чем порядка не было, премьеру откладывали со дня на день.
Только 12 февраля 1954 года состоялась премьера «Оберона». Мои родители приехали из Швеции, мне очень приятно было знать, что они сидят в зрительном зале. Они получили большую красивую программку, которая им очень понравилась. Родители в первый раз присутствовали на моих заграничных гастролях. Особенно мне запомнилось, как был рад отец. Он много плакал, был растроган до глубины души.
Для меня парижский дебют в «Обероне» стал большим шагом вперед. На премьере присутствовал президент Франции Рене Коти с сопровождающими лицами. После представления все певцы собрались на сцене, а президент пришел нас приветствовать. Там был фотограф, вероятно швед, он настоял, чтобы мы с Коти еще раз обменялись рукопожатием. Разумеется, я себя чувствовал очень глупо, протягивая лапищу президенту, но он понял, для чего это надо, и снимок получился просто великолепный.
«Оберона» я спел в парижской Опере приблизительно сорок раз. Сразу после премьеры Морис Леман попросил меня подписать контракт на следующий год, и я согласился.
Возвращаясь теперь к моему браку с Надей, я должен сказать, что за ней никогда не водилось профессиональной зависти. И это несмотря на то, что сама она была незаурядным мастером. Когда я с ней познакомился, она только что закончила Парижскую консерваторию, получила первую премию. Это было исключительно трудно, потому что конкуренция среди пианистов была убийственная. В первое время нашего брака у Нади было довольно много аккомпаниаторской работы, к тому же она давала уроки в Русской консерватории Парижа и, помимо всего, помогала мне в моей работе.
Хотя вначале наш брак был весьма счастливым, трудности не заставили себя долго ждать. Мне казалось, что Надя — человек со сложной, путаной психикой, вероятно, она думала то же самое обо мне. Мы не понимали друг друга, и это привело к ссорам, которые становились все чаще и все яростней.
Дополнительные осложнения в наши разногласия внесло вмешательство родителей. И Надины, и мои родители хотели решать за нас, как мы должны вести себя в нашей совместной жизни. Это отравило атмосферу. Надины родители все время плакались, ныли, что она слишком много времени тратит на помощь мне, что так она не сможет продолжать собственную карьеру концертирующей пианистки. Тогда я решил взять другого аккомпаниатора, чтобы Надя всей душой могла предаться своей работе, но из этого не вышло ничего хорошего. Мое решение только вызвало тяжкие оскорбления.
Постепенно взаимное непонимание захватило практически все области наших отношений. Мы с Надей завели собаку, я любил ее больше всего на свете. У Надиного отца был кот, и, разумеется, звери не выносили друг друга. В один прекрасный день моему псу удалось покусать проклятого котяру тестя, и жизнь стала как в аду. Мои родители боялись, что теперь, когда я живу в Париже, а семья жены имеет такое большое влияние на нашу личную жизнь, они утратят со мной связь. Их беспокоило еще и то, что я больше не стану помогать им материально.