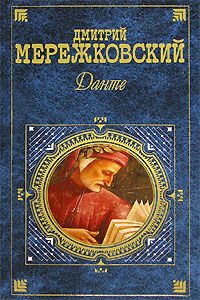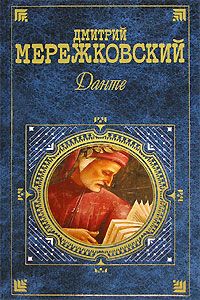Анатолий Мариенгоф - Роман без вранья
Кирилл протягивает ручонку в закат и говорит, сияя:
— Мяятъ (мяч).
Еще посмотрел и, покачав головенкой, переменил решение:
— Саал (шар).
И наконец, ухватив меня пребольно за нос, очень уверенный в своей догадке, произнес решительно:
— Неть. Неть — тисы (часы).
Каковы образы. Какова наглядность — нам в подтверждение — о словесных формированиях.
26
У Семена Федоровича где-то в Тамбовской губернии были ребятишки. Сообразил он их перевезти в Москву и по этому случаю начал поприсматривать нам другую комнату.
Сказал, что в том же Георгиевском хотели уплотниться князья В.
Семена Федоровича князь предупредил:
— Жидов и большевиков не пущу.
На другой день отправились на осмотр «тихой пристани».
Князю за шестьдесят, княгине под шестьдесят — оба маленькие, седенькие, чистенькие. И комнатка с ними схожая. Сразу она и мне, и Есенину приглянулась. Одно удивило, что всяческих столиков в комнатенке понаставлено штук пятнадцать: круглые, овальные, ломберные, чайные, черного дерева, красного дерева, из березы карельской, из ореха какого-то особого, с перламутровой инкрустацией, с мозаикой деревянной — одним словом, и не перечислить всех сортов.
Есенин скромненько так спросил:
— Нельзя ли столиков пяточек вынести из комнаты?
Князь и княгиня обиделись. Оба сердито замотали головами и затуркали ножками.
Пришлось согласиться на столики. Стали прощаться. Князь, протянув руку, спрашивает:
— Значит, вы будете жить?
А Есенину послышалось вместо «жить»— «жид».
Говорит испуганно:
— Что вы, князь, я не жид… я не жид…
Князь и княгиня переглянулись. Глазки их метнули недоверчивые огоньки.
Сердито захлопнулась за нами дверь.
Утром, за чаем, Семен Федорович передал князев ответ, гласящий, что «рыжий» (Есенин) беспременно уж жид и большевик, а насчет «высокого» они тоже не вполне уверены — во всяком случае, в дом свой ни за какие деньги жить не пустят.
Есенин чуть блюдечко от удивления не проглотил.
27
В весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда втайне мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку-другую поработало брюхо, как в осень мельница.
Старая моя нянька так говорила о Москве:
— Уж и жизнь! Уж и жизнь! В рот не бери и на двор не ходи.
Весь последний месяц Есенин счастливо играл в карты. К поездке поднасобирались деньги.
Сначала садились за стол оба — я проигрывал, он выигрывал.
На заре вытрясем бумажники: один с деньжищами, другой пустой.
Подсчитаем — все так на так.
Есенин сказал:
— Анатолий, сиди дома. Не игра получается, а одно баловство. Только ночи попусту теряем.
Стал ходить один.
Играл свирепо.
Сорвет ли чей банк, удачно ли промечет — никогда своих денег на столе не держит. По всем растычет карманам: и в брючные, и в жилеточные, и в пиджачные.
Если карта переменится — кармана три вывернет, скажет:
— Я пустой.
Последние его ставки идут на мелок.
Придет домой, растолкает меня и станет из остальных уцелевших карманов на одеяло выпотрашивать хрусткие бумажки…
— Вот, смекай, как играть надо!
Накануне отъезда у нас в Георгиевском Шварц читал свое «Евангелие от Иуды».
Шварц — любопытнейший человек. Больших знаний, тонкой культуры, своеобразной мысли. Блестящий приват-доцент Московского университета с вдохновенным цинизмом проповедовал апологию мещанства. В герани, канарейке и граммофоне видел счастливую будущность человечества.
Когда вкусовые потребности одних возрастут до понимания необходимости розовенького цветочка на своем подоконнике, а изощренность других опростится до щелканья желтой птички, наступит золотой век.
На эстраде всегда Шварц был увлекателен, едок и острословен.
Как несправедливо, что маленькая черная фигурка, с абсолютной круглой бледной головой и постоянным в глазу моноклем на широком шнуре, ушла, не оставив после себя следа.
Походил он на палку черного дерева с шаром из слоновой кости вместо ручки.
Шварц двенадцать лет писал «Евангелие от Иуды».
Впервые его прочесть решил у нас — тогда самых молодых, самых «левых», самых бесцеремонных к литературным богам и божкам.
Объяснял:
— Мне нос важен. Чтобы разнюхали: с тухлятинкой или без тухлятинки. А на сей предмет у этих носы самые подходящие.
На чтение позвали мы Кожебаткина и еще двух-трех наших друзей.
«Евангелие» Шварцу не удалось.
Видимо, он ожидал, что три его печатных листика, на которых положено было двенадцать лет работы, поразят по крайней мере громом «Войны и мира».
Шварц кончил читать и в необычайном волнении выплюнул из глаза монокль.
Есенин дружески положил ему руку на колено:
— А знаете, Шварц, ерунда-а-а!.. Такой вы смелый человек, а перед Иисусом словно институтка с книксочками и приседаньицами. Помните, как у апостола сказано: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам»? Вот бы и валяли. Образ-то какой можно было закатить. А то развел патоку… да еще «от Иуды».
И, безнадежно махнув рукой, Есенин нежно заулыбался.
Этой же ночью Шварц отравился.
Узнали мы о его смерти утром.
В Харьков отходил поезд в четыре. Хотелось бежать из Москвы, заткнув кулаками уши и придушив мозг.
На вокзале нас ждали. В теплушке весело потрескивала железная печка. В соседнем вагоне ехали красноармейцы.
Еще с Москвы стали они горланить песни и балагурить. Один, голубоглазый, с добрыми широкими скулами, ноздрями, расставленными как рогатка, и мягким пухлым ртом, чудесно играл на гармошке.
На какой-то станции я замешкался с кипятком. Поезд тронулся. На ходу вскочил в вагон к красноармейцам.
Не доезжая Тулы, поезд крепко пошел. Вдали по насыпи бежала большая белая собака, весело виляя хвостом.
Голубоглазый отложил гармонь и, вскинув винтовку, неожиданно выстрелил.
Собака, только что весело вилявшая хвостом, ткнулась носом в землю, мелькнула в воздухе белыми лапами и свалилась с насыпи в ров.
Довольный выстрелом, красноармеец повернул ко мне свое мягкое, широкоскулое лицо с пухлым ртом, расползшимся в добродушную улыбку:
— Во как ее…
И еще одна подобная же улыбка как заноза застряла у меня в памяти.
Во дворе у нас жил водопроводчик. Жена его умерла от тифа. Остался на руках неудачливый (вроде как бы юродивенький) мальчонка лет пяти.