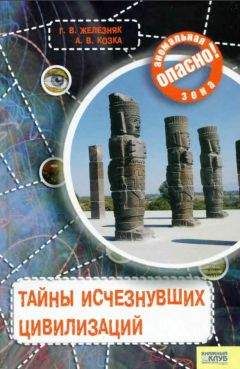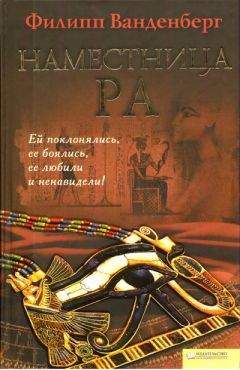Светлана Алексиевич - У войны - не женское лицо
Смотрю теперь фильмы о войне: медсестра на передовой, она идет аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у нее пилоточка на хохолке... Ну, неправда!.. Разве мы могли вытащить раненого вот такие.,, Не очень-то в юбочке наползаешь, когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки расстегивали, чтобы видно было..."
Из воспоминаний минчанки Анны Ивановны Беляй, ветерана сорок восьмой армии:
"Бомбежка. Все бросились в овраг. И я бегу. Слышу чей-то стон: "Помогите..." Но бегу... Через несколько минут до меня что-то доходит, я чувствую на плече санитарную сумку. И еще... стыд. Куда девался страх! Бегу назад: стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему перевязывать. Затем второго, третьего..."
А Ольгу Васильевну Корж, санинструктора кавалерийского эскадрона, поразило то, что уже не поражало других, - убитый человек Семнадцатилетняя девочка запомнила его на всю жизнь:
"На войне я думала: никогда ничего не забуду. Но забывается... А эту картину помню до мельчайших подробностей... Молодой такой, интересный парень. И лежит убитый. Я представила, что будут хоронить с почестями, а его берут и тащат к орешнику. Вырыли могилу... Бег гроба, без ничего зарывают в землю, прямо так и засыпали. Солнце такое светило, и на него тоже... Лето. Не было ни плащ-палатки, ничего, его положили в гимнастерке, галифе, как он был, и все это еще новое, он, видно, недавно прибыл. И вот так положили и зарыли. Ямка была очень неглубокая, только чтобы он лег. И рана небольшая, она смертельная - в висок, но крови мало, и человек лежит, как живой, только очень бледный.
За обстрелом нчалась бомбежка, и бомба попала в ящик со снарядами, эти снаряды рвались во все стороны... Самолеты висят над нами. Тут хотя бы в землю человека положить. А как мы в окружении людей хоронили? Тут же, рядом, возле окопчика, где мы сами сидим, зарыли - и все. Бугорок только оставался. Его, конечно, если следом немцы идут или машины, тут же затопчут. Обыкновенная земля оставалась, никакого следа. Часто хоронили в лесу под деревьями... Под этими дубами, под этими березами...
Я в лес до сих пор не могу ходить. Особенно, где растут старые дубы или березы... Не могу там сидеть..."
Начинают рассказывать тихо, а к концу почти кричат. Потом сидят подавленные, растерянные. И ты чувствуешь себя виноватой, знаешь, что уйдешь, а они будут глотать таблетки, пить успокоительное. Дочь или сын уже смотрят на тебя умоляюще, делают знаки: "Сможет, хватит? Ей нельзя расстраиваться..." И одно только тебе оправдание, что останутся их живые голоса, сбереженные магнитофонной лентой и пусть хрупким, но все-таки более вечным, чем самая крепкая человеческая память, листом бумаги. Но все равно тяжело сидеть и слушать, а им рассказывать еще тяжелее.
Мария Терентьевна Дрейчук, старший сержант, санинструктор в батальоне морской пехоты:
"Увидела первого убитого, наклонилась, поняла, что убитый, и стала плакать. Стою и плачу, пока ребята не подбежали. Бой тяжелый, раненых много, а рота прорвалась и быстро ушла вперед. Меня оставили в яме, большая яма от бомбы с тяжелыми ранеными. Они все брюшняки, один за одним умирают. Я оплакиваю каждого.
У одного нога висела на штанине, а он кричит: "Перевяжи ногу!" Отрезала штанину, он просит: "Сестричка, положи мне ногу!.."
А вот что запомнила врач Минской республиканской стоматологической поликлиники Мария Селивестровна Божок, в войну медсестра:
"Самое невыносимое для меня были ампутации... Часто такие высокие ампутации делали, что отрежут ногу, и я ее еле держу, еле несу, чтобы положить в таз. Помню, что они очень тяжелые. Возьмешь тихонько, чтобы раненый не слышал, и несешь, как ребенка... Особенно, если высокая ампутация, далеко за колено. Я не могла привыкнуть. Я сны видела, что ногу несу...
Маме я ничего не писала об этом. Я писала, что все хорошо, что я тепло одета, обута. Она же троих на фронт отправила, ей было тяжело..."
Из письма, которое пришло из целинного поселка Ленинградский от саниструктора Марии Петровны Смирновой (Кухарской), награжденной высшим знаком Международного Красного Креста - золотой медалью "Флоренс Найтингейл":
"Родилась и выросла я в Одесской области. В сорок первом году окончила десятый класс Слободской школы Кордымского района. Когда началась война, в первые же дни побежала в военкомат, отправили домой. Еще дважды ходила туда и дважды получала отказ. Двадцать восьмого июля шли через нашу Слободку отступающие части, и я вместе с ними без всякой повестки ушла на фронт.
Когда впервые увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. Когда первый раз полезла под пули за бойцом, кричала так, что, казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла... Через десять дней меня ранило, осколок вытащила сама, перевязалась сама.
Двадцать пятого декабря сорок второго года наша триста тридцать третья дивизия пятьдесят шестой армии заняла высоту на подступах к Сталинграду. Немцы решили ее во что бы то ни стало вернуть. Завязался бой. На нас пошли немецкие танки, но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад, на ничейной земле остался раненый лейтенант, артиллерист Костя Худов. Санитаров, которые пытались вынести его, убило. Поползли две овчарки-санитарки (я их там увидела впервые), но их тоже убило. И тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост, сначала тихо, а потом все громче запела нашу любимую довоенную песню "Я на подвиг тебя провожала". Умолкло все с обеих сторон - и с нашей, и с немецкой. Подошла к Косте, нагнулась, положила на санки-волокуши и повезла к нашим. Иду, а сама думаю: "Только бы не в спину, пусть лучше в голову стреляют". Но не раздалось ни оного выстрела, пока не дошла до наших...
Формы на нас нельзя было напастись: всегда в крови. Мой первый раненый - старший лейтенант Белов, мой последний раненый - Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода. В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и дочерям я показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного раненого. Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон..."
Усовершенствовалась техника человеческого уничтожения, а способы спасения были все те же - раненых таскали на себе. Я не видела, как это делают под огнем. Но на моих глазах однажды здоровые, сильные мужчины разгружали вагоны с зерном, таскали мешки по шестьдесят-восемьдесят килограмм (столько же весит в среднем и человек), на них рубашки были мокрые, хоть выкручивай. Грубое сравнение, но оно делает зримой незнакомую мне работу. И эту деталь тоже: раненый человек тяжелее своего веса, а в это время еще стреляют, бомбят.