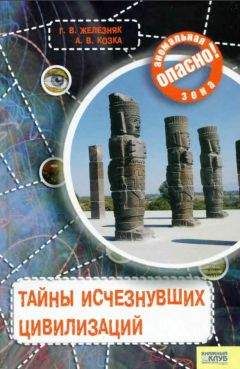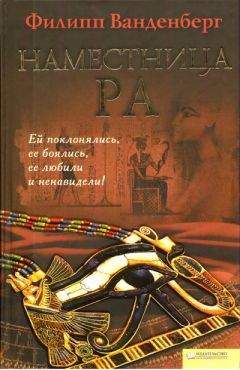Светлана Алексиевич - У войны - не женское лицо
Зато новый самолет мы изучили за полгода вместо двух лет, как это было в мирное время. Для этого и требовалось, чтобы девушки чувствовали себя солдатами, чтобы они ни на что другое не отвлекались. Легко это? Едем на машинах в баню, а по городу идут женщины в туфельках, в платочках. У них другая, у них прежняя жизнь. Вижу: сидят мои девчонки грустные...
В первые дни тренировок погибло два экипажа. Поставили четыре гроба. Все три полка, все мы плакали навзрыд.
Выступила Раскова:
- Подруги, вытрите слезы. Это первые наши потери. Их будет много. Сожмите свое сердце в кулак...
Потом, на войне, хоронили без слез. А теперь, видите, плачу. Тогда перестали плакать. Это я вам прямо говорю.
Летали мы на истребителях. Сама высота была страшной нагрузкой для всего женского организма, иногда живот прямо в позвоночник прижимало. А девочки наши летали и сбивали асов, да еще каких асов! Знаете, когда мы шли, на нас мужчины смотрели с удивлением: летчицы идут. Они восхищались нами. У меня лучшее, что было в жизни, это то, что я летала..."
Пройдя шестимесячные, а то и трехмесячные курсы, они уже имели удостоверение медсестер, окончив по ускоренным программам снайперскую школу, летное или саперное училище, зачислялись снайперами, летчиками, саперами. Они уже имели красноармейские книжки, но солдатами еще не были. Все это пока напоминало школу, учебу, то, в чем них был опыт, но не войну и не фронт, о чем у них были только книжные, часто совершенно романтические представления.
Необычные солдаты представали перед военной комиссией. Направляют такого солдата в партизанский отряд, а он спрашивает: "А как маме оттуда писать в Москву?.."
Вера Владимировна Шевалдышева, старший лейтенант, хирург:
"Осенью меня вызвали в военкомат, и полковник спрашивает": "Прыгать умеете?" Я призналась, что боюсь. Долго он агитировал за десантные войска: красивая форма, шоколад каждый день. Но я с детства боялась высоты. "Хотите в зенитную артиллерию?" А очень я знаю, что это такое - зенитная артиллерия. Тогда он предлагает: "Давайте направим вас в партизанский отряд..." - "А как маме оттуда писать в Москву?" Он берет и пишет красным карандашом на моем направлении: "Степной фронт..."
В поезде влюбился в меня молодой капитан. Всю ночь в нашем вагоне простоял. Он уже был обожженный войной, несколько раз раненый. Смотрел-смотрел на меня и говорит: "Верочка, только не опускайтесь, не становитесь грубой. Вы такая сейчас нежная... Я уже всего повидал...!" И дальше что-то в таком духе, что, мол, трудно выйти чистым из войны...
Месяц добирались мы с подругой до четвертой гвардейской армии Второго Украинского фронта. Догнали, главный хирург вышел на несколько минут, посмотрел на нас, завел в операционную: "Вот ваш операционный стол..." Санитарные машины одна за другой подходят, машины большие, "студебеккеры", раненые лежат на земле, на носилках. Мы спросили только/ "Кого брать первыми?" - "Тех, кто молчит..." Через час я уже стояла за своим столом, оперировала. И пошло... оперируешь сутками, после чуток подремлешь, быстренько протрешь глаза, умоешься - и опять за свой стол. И через два человека третий - мертвый. Не успевали всем помочь...
На станции в Жмеринке попали под страшную бомбежку. Состав остановился, и мы побежали. Замполит наш, вчера ему вырезали аппендицит, а он сегодня уже бежал. Всю ночь сидели в лесу, прятались, а состав разнесло в щепки. Под утро на бреющем полете немецкие самолеты стали прочесывать лес. Куда денешься? В землю, как крот, не полезешь. Я обхватила березу и стою: "Ох, мама-мамочка!.. Неужели я погибну? Выживу, буду самым счастливым человеком на свете..." Кому потом ни рассказывала, как за березу держалась, все смеялись. Ведь что было в меня попасть? Стою во весь рост, береза белая...
День Победы в Вене встретила. Мы поехали в зоопарк, очень в зоопарк хотелось. Можно было поехать посмотреть концентрационные лагеря. Не хотелось... Сейчас удивляюсь, почему не поехала, а тогда не хотелось..."
Из воспоминаний рядовой полевого банно-прачечного отряда Светланы Васильевны Катыхиной:
"...Нас было трое: мама, папа и я. Первым уехал на фронт отец. Мама хотела пойти вместе с отцом, она медсестра, но его в одну сторону направили, ее - в другую. А мне было только шестнадцать лет, меня не хотели брать. Я ходила-ходила в военкомат, и через год меня взяли.
Мы долго ехали поездом. Вместе с нами возвращались солдаты из госпиталей, были там тоже молодые ребята. Они рассказывали нам о фронте, и мы сидели, открыв рот, слушали. Говорили, что нас будут обстреливать, и мы сидим, ждем: когда же обстрел начнется? Мол, приедем и скажем, что уже обстрелянные. Помню, что один, ну, мальчишка, а на гимнастерке новенький орден. И мы себе совсем не так войну представляли, как увидели. Нас не к винтовкам, а к котлам приставили, к корытам. Девочки все моего возраста, до этого родители нас любили, баловали. Я была единственный ребенок в семье. А тут тягаем дрова, топим печки. Потом золу эту берем и в котлы вместо мыла, а белье грязное, вшивое..."
Труднее всего было выдержать в первые дни, недели, месяцы на фронте, когда чувства и ощущения у человека остались еще прежние, из мирной жизни: еще страшно то, что страшно, еще ненормально то, что нормально. Выдержать надо было не кому-нибудь, а девочке, которую до войны мать еще баловала, жалела, считая ребенком. Этой девочке - ленинградка Софья Константиновна Дубнякова назовет ее "чертовой тургеневской барышней", вложив в это сравнение все противоречие между женским естеством и тем, что пришлось делать, пережить, увидеть на войне женщине, - надо было стать другим человеком, с другими эмоциями, другим слухом, зрением.
Софья Константиновна Дубнякова, старший сержант, санинструктор:
"Самые тяжелые ранения, сказали нам, в голову и в живот. И если бомбежка, обстрел, мы старались прятать живот и голову. Где-то возле разбитой машины подобрали подушку от сиденья и ею прикрывались. Голову прятали в колени...
Я до сих пор помню своего первого раненого. Лицо помню... У него был открыты перелом средней трети бедра. Представляете, торит кость, осколочное ранение, все вывернуто. Я знала теоретически, что делать, но когда я к нему подползла и вот это увидела, мне стало плохо, меня затошнило. И вдруг слышу: "Сестричка, попей водички..." Это мне это раненый говорит. Я эту картину помню как сейчас. Как он это сказал, я опомнилась: "Ах, - думаю, чертова тургеневская барышня! Раненый человек погибает, а ее, нежное создание, затошнило..." Я развернула индивидуальный пакет, закрыла им рану, и мне стало легче, и оказала, как надо, помощь.
Смотрю теперь фильмы о войне: медсестра на передовой, она идет аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у нее пилоточка на хохолке... Ну, неправда!.. Разве мы могли вытащить раненого вот такие.,, Не очень-то в юбочке наползаешь, когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки расстегивали, чтобы видно было..."