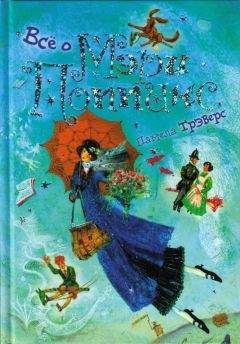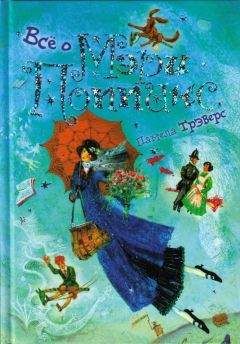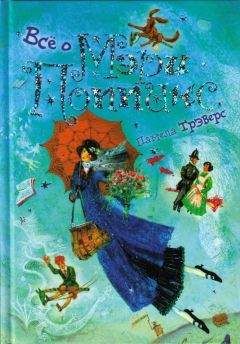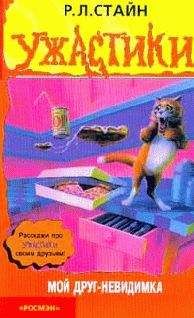Леонид Леонов - Взятие Великошумска
- Торопятся... ничего, проскочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, иностранному телу ни к чему.
Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного в небе гудения какого-то связного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное тело. Литовченко припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него как стрела, и острие обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: "Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи..."
Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной "виллис". Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошино, было бы теперь, пожалуй, и не проехать. Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.
Множественный след гусениц сводил с дороги влево во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.
Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.
7
Тридцать седьмая бригада пришла на место затемно: нараставшие события удлинили намеченный маршрут, посдвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальон. Пока они на ночь глядя лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих явных признаков подсказывало старым танкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую еще нельзя было считать боевым крещеньем. Прямых попаданий не было - бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. На минутку в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, и младшему Литовченке верилось - все целились в него одного!
Смущенья от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его понятное волненье. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко так и поступил, и спасенье, что не удастся ему довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белесое, помятое злобой и бессонницей лицо летчика, бескостное и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И, заглянув так в его черные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрет, не достигнув цели... Так и было. Танк слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в свое кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолет врылся в землю, стремясь закопать в нее свой огромный и шумный огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали вражеской авиации повторить заход.
Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы; Обрядин светил ему переноской. Все находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж получасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой, в лесу обнаружились добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стойла, Собольков отметил, что тот работает как часы, и незачем ковыряться в нем больше.
- Какое число у нас сегодня? - вспомнил он вдруг, не обращаясь ни к кому.
- Двадцать первое кончается, - ответит из потемок радист и поднес лампу к его лицу, различив незнакомую нотку в голосе лейтенанта. - Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний денек... а что?
Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоверчивой пристальностью вглядываясь в глубину леса, что и радист невольно оглянулся туда же.
- Нет... это хорошо, - неопределенно сказал Собольков и прибавил обычным тоном, что, кроме радиста, который после ужина вернется сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета; охрану нес моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожность - старшая сестра отваги.
Сам он ушел от машины последним. Она стояла в земле, в уровень с основанием башни; ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округлял впадины на нем. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Собольков видел ее всю, двести третью, как в полдень. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; перед тем семь летних месяцев, когда жара и пыль вдвое изнашивают цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот железный воин по пути к победе паспорт танка в его холщовом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий черноватый дым валил из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала. После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые кольца, едва хватало силы довести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, расшатанное приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом на башне - смерть фашизму. На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под долговременную огневую точку. Экипаж встретил обещание помпотеха выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не решился разлучить этих людей с их машиной. Двести третья осталась в строю.