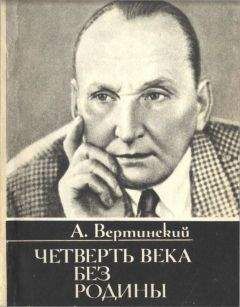Александр Вертинский - Дорогой длинною...
В доме у Софьи Николаевны я встретил молодого киевского доцента Александра Брониславовича Селихановича — добрейшего и благороднейшего человека, прекрасно образованного, умного и начитанного, который, сразу оценив мои способности и видя безвыходность моего положения, взял меня к себе в свою, правда, холодную, нетопленую комнату — на Печерске, где он жил с братом. У него я и ночевал. Это все же было теплей, чем в беседке. У него была большая библиотека, из которой, должен сознаться, я потаскал немало книг. Книги эти я продавал на толкучке. Есть‑то ведь надо было! Возможно, что он догадывался о хищениях, но со свойственной ему деликатностью душевной и виду не подавал.
Через много лет, вернувшись на родину, я встретился с ним в Пятигорске; он профессор и преподаёт в одном из институтов, а мне до сих пор стыдно смотреть ему в глаза!
Я все время был в кругу поэтов, художников, актёров, журналистов. Может быть, у меня глаза разбегались? Но все никак не мог решить, кем хочу стать: то ли поэтом, то ли актёром, то ли писателем.
Купив на Подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем, к изумлению окружающих. Вёл себя я вообще довольно странно. Выработав какую‑то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьёзных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определённой цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял ещё и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль «молодого гения» и «непонятой натуры», ум мой неустанно и машинально искал выхода.
Мы, богема, собирались в подвале, в маленьком кабачке под Городской думой, где торговали дешёвым вином и сыром, и горячо спорили по целым дням, ничего фактически не делая и ничем не занимаясь. Я просиживал там дни и ночи — долговязый, презрительный и надменный, во фраке, всегда с живым цветком в петлице, снобирующий все и вся. Я эпатировал буржуа!
Киев был полон молодых красивых девушек. И я влюблялся то в одну, то в другую. Познакомившись со мной, эти девушки до какой‑то степени подпадали под моё «дурное влияние». Тогда перепуганные родители, до которых доходили тревожные слухи, приезжали за ними в Киев и, вырвав своих дочерей из‑под моего «демонического» воздействия, увозили домой в какой‑нибудь Могилёв или Бердичев…
Когда у тётушки Марьи Степановны родились дети — Серёжа, потом Алёша, — она стала мягче и добрее. Дети, а главное — собственные, как‑то переменили её характер. И ко мне она стала относиться лучше. Я уже не жил у неё, как прежде. Но иногда всё‑таки, когда было трудно, поселялся у неё в доме на время. Моё место заняла Кинька — дочь Лидии Степановны, которая умерла к тому времени. Кинька училась в Киевском институте благородных девиц, закрытом дворянском учреждении, где воспитывали в полном неведении жизни стопроцентных дур, которых готовили в жены каким‑нибудь лоботрясам и недорослям — сыновьям богатых родителей. Их учили языкам, музыке и хорошим манерам, и, выйдя из института, они ни к чему не были приспособлены. Киньке отец оставил немного денег и кой-какие вещи, и она была, конечно, в доме Марьи Степановны на лучшем положении, чем я. Кроме того, она была благонравна, скромна и своим поведением не настраивала против себя весь дом. Я таскал из её комода всякие безделушки, продавал их на толкучке. С ней, беднягой, я совсем не церемонился. И когда мне хотелось сделать подарок какой‑нибудь очередной своей пассии, я выцыганивал у Киньки какие‑нибудь серёжки или браслетик, причём резоны приводил такие:
— Ты же рожа! Ну зачем тебе эти серьги? Посмотри на себя в зеркало! А Роза (или какая‑нибудь Сонечка, в зависимости от того, как её звали) — красавица!
Бедная Кинька, потрясённая убедительностью этих аргументов, кротко отдавала мне свои скромные драгоценности. Действительно, я был бандит!
Мы влюблялись, писали девушкам стихи, ломались перед ними, играя то в Дорианов Греев, то в лейтенантов Гланов, по Кнуту Гамсуну, острили, снобировали, гениальничали и кружили их юные провинциальные головки.
Помню, был я влюблён в одну девушку-медичку. Звали её Кэт. Она была стройная, зеленоглазая, и брови у неё были похожи на крылья ласточки. Помню, что жила она на Ирининской улице, где‑то на шестом этаже большого дома. Долго продолжался наш поэтически-платонический роман, потом как‑то оборвался сам собой. Через тридцать лет, когда я, объехав весь свет, вернулся на родину, однажды в одном городке ко мне за кулисы перед концертом зашла крупная суровая чёрная женщина с усами.
— Вы не помните меня? — спросила она.
— Нет! — чистосердечно признался я.
— Меня зовут Кэт. Помните? Я — Кэт!
— Какая Кэт? — спросил я.
Вместо продолжения разговора эта дама вынула из сумочки мою маленькую уличную моментальную фотографию тех времён, в широкополой испанской шляпе, где было написано: «Чёрной ласточке, зеленоглазой Кэт от её вечного раба» и т. д. Я вспомнил… и мне стало бесконечно грустно.
— Я старший хирург местного госпиталя! — с достоинством сказала она.
И я представил себе, как безжалостно она кромсает человеческое тело.
— Зачем вы пришли сюда? — спросил я. — Вы бы навеки оставались у меня в сердце «чёрной ласточкой». А теперь вы убили «чёрную ласточку» моей юности навсегда.
Да… у женщин не всегда хватает ума и такта в таких вещах!
На модных тогда литературных «судах» и диспутах мы оттачивали свои мысли и свои языки. Эти общения дали мне новых друзей. Все это были более или менее благополучные юноши. Жили они безбедно, за счёт родителей. Они не нуждались, как мы, богема, и охотно делились с нами своими достатками.
А были и другие. Например, некий Сашка Войтиченко. Отец его жил в Нежине и солил огурцы. У него были две сестры, в одну из которых, Манечку, я даже кратковременно влюбился, пока не узнал, что она вышла замуж за околоточного надзирателя. Сашка был красивый украинец с огромными чёрными глазами и пышными кудрями. Больше всего ему хотелось, как и мне, славы, успеха, признания. Играл он на своих цимбалах по слуху неплохо, довольно задушевно. Но, конечно, не имел музыкального образования и заменял его большой самоуверенностью и наскоком. Он уезжал на курорты в Крым и на Кавказ, где‑то выступал. О нем что‑то писали. Все это он подклеивал в альбом, вырезал из газетных статей только то, что ему нравилось, остальное выкидывал. Мы дико завидовали его мнимым успехам. Цимбалы, купленные на толкучке, он выдавал за редчайший инструмент XVII века — «запорожский кимвал». Для большей достоверности он сделал этому «кимвалу» шикарную подставку-резонатор и обклеил его старинными медальонами, тоже купленными на толкучке.