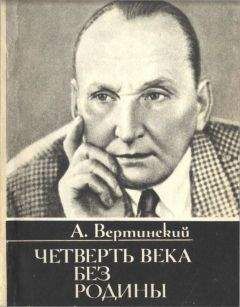Александр Вертинский - Дорогой длинною...
Так что имейте в виду — я не люблю людей своего возраста. А мемуаров я просто терпеть не могу и никогда ничьих не читаю. Они старят нас, актёров. И ещё я заметил, что когда человек напишет их — так обязательно в скором времени «кокнется», то есть отдаст концы. И если я решился написать эти воспоминания, то только под настойчивым давлением молодёжи, которая уже четырнадцать лет, как я вернулся, уговаривает меня написать книгу. А молодых я люблю. Мне приятно и весело с ними. Во всех своих поездках я окружаю себя молодыми людьми. И они, как галчата, разевают рты, слушая мои нескончаемые рассказы о моей долгой и, по правде сказать, небезынтересной жизни.
Впрочем, это лишь небольшое шутливое отступление. Так или иначе, но сейчас я должен снова вместе с вами, читатель, вернуться в прошлое.
Как‑то великим постом, когда Соловцовский театр закрывался и актёры разъезжались на гастроли, в «Народном доме» на Большой Васильковской улице были объявлены выступления Бориса Путяты. Ставили «Мадам Сан-Жён». Путята играл Наполеона. Нужны были статисты. Зенченко, между прочим, взял и меня. Когда начались репетиции, потребовались два мамелюка для личной охраны императора, которые должны были неподвижно стоять, скрестив руки, у дверей его кабинета. Перед появлением Наполеона они возглашают по очереди только одно слово: «Император». Одним из этих мамелюков твёрдо решил стать я. Ведь это уже была роль! В ней можно было выдвинуться, думал я. Важно ведь только начать. Сказать наконец живое слово со сцены. А то статистом так и промолчишь всю жизнь. Я обратился к Зенченко. За три рубля эту «роль» он дал мне. Деньги были немедленно украдены мной из комода тётушки. Три дня и три ночи я не ел, не пил и на асе лады повторял:
— Император!
И вот первая репетиция. Путята приехал на неё, красивый, крепкий, стройный, в какой‑то голубой венгерке и рейтузах, но с опозданием и не в духе.
Четвёртый акт. Кабинет Наполеона. Мамелюки стоят, скрестив руки, у дверей. Наполеон приближается. Сейчас он войдёт.
— Император! — возглашает первый мамелюк.
— Импеятой! — повторяю я вслед за ним.
— Что? что? — скривив лицо, переспросил Путята. — Это ещё что за косноязычный? — накинулся он на помрежа, — Кого вы тут наставили? Убрать немедленно!
И меня убрали.
Так сломалась моя театральная карьера.
Потом, много лет спустя, когда я уже был известен, а Путята был на склоне своей театральной жизни, мы с ним встретились в Харькове и очень подружились. Но я все же не мог простить ему этот инцидент.
А дома у тётушки дела мои стали совсем плохи. К тому времени меня уже окончательно выгнали из гимназии. Наступил 1905 год. Надвигалась первая революция. Молодёжь была начинена динамитом. Мы собирались в кружки на квартирах товарищей, читали нелегальную литературу, разносили по рабочим районам листовки и прокламации, слушали зажигательные речи ораторов. В Киеве взбунтовались сапёры. Мы ходили с кружками по городу, собирая для них деньги. Возле Еврейского базара в толпу стреляли войска. Было много раненых и убитых.
Время было такое, что если гимназист пятого класса умирал, например, от скарлатины, то вся гимназия шла за его гробом и пела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Взрослые покачивали головами и растерянно уговаривали нас «подумать», «не спешить», «беречь себя» и пр. Но, в общем, что с нами делать. Тётка моя приходила в ярость.
— Мало того, что ты босяк, выгнанный изо всех гимназий, — говорила она, — так ты ещё хочешь, чтобы нас всех арестовали из‑за тебя?
А ко всему я ещё и возвращался домой поздно. Спектакль кончался в 12 часов, и я стучал в дверь кухни уже во втором часу ночи. Пока дойдёшь с Николаевской на вокзал!
Добросердечные кухарки сперва открывали мне по ночам, и я, полузамёрзший и голодный, входил в тёплую кухню, доедал остатки ужина и пробирался на деревянный сундук в передней, укрывался старым гимназическим пальто и сладко засыпал непробудным сном молодости.
Но тётка сказала однажды:
— Где ты шляешься, там и ночуй!
И строго-настрого запретила кухаркам впускать меня в дом по ночам. Тщетно я стучался в окно кухни. Что было делать? Куда пойти? Где ночевать? Бросить театр я не мог. Это было выше моих сил. А друзей, у которых я мог бы переночевать, у меня не было. В саду стояла беседка. На зиму она запиралась на замок. В ней лежали грубые солдатские ковры. Выломав две штакетины в беседке, я влезал в неё и, закутавшись в эти ковры, засыпал на морозе. И мне было тепло. А утром я приходил на кухню и пил чай, умывался и приводил себя в порядок, как ни в чем не бывало.
В конце концов тётка все же выгнала меня из дому, и я стал ночевать в чужих подъездах, просиживая ночи на ступенях холодных лестниц. А потом… потом у меня завелись другие знакомые и друзья — молодые поэты, художники, литераторы. Я попал в среду богемы. Тут мне стало немного легче. Потому что почти всем нам было одинаково плохо, мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как‑то сообща.
Юность в Киеве
В 1912 году в журнале «Киевская неделя» был напечатан мой первый рассказ — «Моя невеста». Рассказ был написан в модной тогда декадентской манере и оказался довольно заметным на фоне киевской беллетристики. Потом появился второй — «Папиросы «Весна» — в том же стиле. Потом одна из киевских газет, «Отклики», взяла у меня рассказ «Лялька». Обо мне уже стали поговаривать как о подающем надежды молодом литераторе.
Тут я попал в один хороший литературный дом, о котором на всю жизнь сохранил самые тёплые воспоминания. Это был дом Софьи Николаевны Зелинской, преподавательницы женской гимназии, очень образованной и умной женщины. У неё собирался весь цвет интеллигенции Киева. Мужем её был Н. В. Луначарский, брат Анатолия Васильевича Луначарского. Софья Николаевна приняла во мне дружеское участие. Меня подкармливали в этом доме, а впоследствии на даче оставляли даже жить. Многому я научился там. Зелинская была женщина с большим литературным вкусом. Её влияние удержало меня от чрезмерного упоения собственными дешёвыми успехами. Во мне развивалось настоящее, серьёзное отношение к литературе, вырабатывался вкус к настоящей поэзии. Вырабатывалось чувство меры в частности — очень важное чувство!
Неизвестно, что бы вышло из меня, если бы не этот уютный милый дом, где всегда было тепло, где вечерами на столе уютно кипел самовар и подавались к чаю бутерброды с холодными котлетами и колбасой. В её доме бывало много интересных людей. Поэты Кузьмин, Владимир Эльснер и Бенедикт Лифшиц, художники Александр Осмёркин, Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Золотаревский и другие, имена которых я уже забыл, и главное — много талантливой молодёжи.