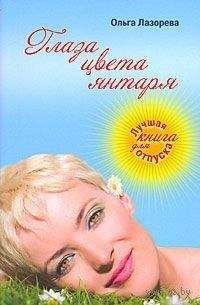Олег Лекманов - Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография
«Цеховой» дебют Мандельштама состоялся 10 ноября 1911 года, и уже «очень скоро» поэт сделался в «Цехе» «первой скрипкой» (формула Ахматовой)[142].
Судя по всему, Мандельштама влекла в «Цех» в той же степени жажда услышать квалифицированное мнение о своих стихах, сколь и царившая на «цеховых» встречах дружеская атмосфера. «Неврастеник» (как аттестовала своего сына Флора Мандельштам)[143], не принятый вполне ни одним сообществом, впервые в жизни обрел круг людей, с которыми он мог объединить себя словом «мы»[144]. Пушкинский лицей, которым не стало для Мандельштама Тенишевское училище, в какой-то мере воплотился в «Цехе поэтов». А это придало молодому стихотворцу чувство уверенности в себе. Случайно встретившийся с ним в ноябре 1912 года Михаил Карпович вспоминал: «Мандельштам показался мне на вид очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и, во всяком случае, без каких-либо следов прежней экспансивности»[145].
Неудивительно, что в три предвоенных года создавались едва ли не самые жизнеутверждающие мандельштамовские стихотворения:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло, –
Поедем в Царское Село!
Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Особенно отчетливо тогдашние настроения поэта отразила его «сонетная серия», в которую вошли стихотворения «Казино» (1912), «Пешеход» (1912), «Паденье – неизменный спутник страха…» (1912) и некоторые другие:
Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.
Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.
Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;
И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, –
Люблю следить за чайкою крылатой!
Как в хрестоматийной лермонтовской «Родине», в этом стихотворении первая половина противопоставлена второй через союз «но» и конструкцию «Я не поклонник…» – «Но я люблю…». Один и тот же пейзаж увиден здесь дважды. Абстрактная «природа», расплывающаяся в «серое пятно» (2-я ст.), противопоставлена конкретным реалиям приморского казино, слитым в богатую цветовую гамму (зеленый, алый, сверкающе-серебристый – финальные строки). Абстрактная «душа», висящая над «бездною проклятой» (8-я ст.), предстает во второй половине стихотворения милой сердцу поэта «чайкою крылатой» (14-я ст.), а символическое «бездыханное полотно» (7-я ст.) – обыденной «скатертью измятой» (11-я ст.). Горизонталь (10-я ст.) противопоставлена вертикали (5-6-я ст.); ширина – «вышине» и «глубине»: границы окна отсекают от «широкого окна» невидимое и неведомое «морское дно» и укрытое тучами небо (верх и низ, рай и ад, высь и бездну).
Строки из второй половины сонета «Казино» уместно будет сопоставить со следующим фрагментом из письма юного Мандельштама к Вячеславу Иванову из Монтрё, отправленного 13 августа 1909 года: «…Я наблюдаю странный контраст: священная тишина санатории, прерываемая обеденным гонгом, – и вечерняя рулетка в казино: Faites vos jeux, messieurs! – Remarquez, messieurs! rien ne va plus! <Делайте ваши ставки, господа! – Внимание, господа! Ставок больше нет! – фр.> – восклицания croupiers, полные символического ужаса.
У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лимана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль hotel’я и англичанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне.
Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сантиментально.
Может быть, в этом виновато мое слабое здоровье? Но я никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это» (IV: 15). В свою очередь, этот отрывок из мандельштамовского письма чрезвычайно напоминает «бальбекские» страницы романа Марселя Пруста «Под сенью девушек в цвету»[146].
Возвращаясь в 1911 год, отметим, что помимо Гумилева и Ахматовой в «Цехе» Мандельштам тесно сошелся со своеобразным поэтом, прекрасным человеком и великим переводчиком Михаилом Леонидовичем Лозинским (1886–1955). А также с куда менее симпатичным Георгием Владимировичем Ивановым (1894–1958) – в ту пору эпигоном Михаила Кузмина, а чуть позже – своих старших коллег по «Цеху». Георгий Иванов – «такой молодой поэт, что Анна Ахматова доводится ему почтенной тетушкой, а О. Мандельштам – почтенным дядюшкой», – ехидничала ненавистница акмеистов София Парнок[147]. Пройдут многие десятилетия, прежде чем Иванов напишет свои лучшие, проникнутые едкой горечью и терпкой нежностью стихотворения.
Иванов бравировал своей дружбой с Мандельштамом, «который, в свою очередь, “выставлял напоказ” свою дружбу с Георгием Ивановым, – отмечал в своих мемуарах Рюрик Ивнев. – И тому и другому, очевидно, нравилось “вызывать толки”. Они всюду показывались вместе. В этом было что-то смешное, вернее, смешным было их всегдашнее совместное появление в обществе и их манера подчеркивать то, что они – неразлучны»[148]. «Георгий Иванов был из Пажеского <на самом деле из 2-го Кадетского> корпуса, – рассказывал Михаил Зенкевич Л. Шилову и Г. Левину, – он челочку носил, вроде Ахматовой, он длинноносый тогда был… Недурен собой, грассировал… Они с Мандельштамом часто к Кузмину бегали…»[149]. «Георгий Иванов был неразлучен с Осипом Мандельштамом, одним из самых смешливых – и при том самых умных – людей, которых мне приходилось встречать, – вспоминал Георгий Адамович. – Наперебой они сочиняли экспромты, пародии, стихотворные шутки»[150].
Приятельство с Георгием Ивановым оставило след в творческой биографии поэта: одно из мандельштамовских стихотворений 1913 года не только содержит портрет Иванова, но и отчетливо стилизовано под его несколько жеманную манеру:
От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи,
И фонари, как факелы, горят.
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка[151].
Вместе с Михаилом Лозинским и Георгием Ивановым Мандельштам щедро участвовал в создании «цеховой» «Антологии античной глупости», в сочинении всевозможных юмористических буриме и акростихов. Хотя недолгий посетитель «Цеха» Михаил Лопатто и писал в своих мемуарах, что Мандельштам «шуток не понимал»[152], остальные знакомые и друзья вспоминали о поэте совсем по-другому. «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван в “Тучке” и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в “Улиссе” Джойса»[153]. «– Зачем пишется юмористика? – искренне недоумевает Мандельштам. – Ведь и так всё смешно»[154]. «Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям»[155].