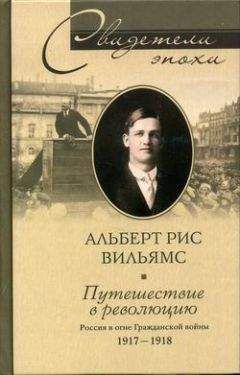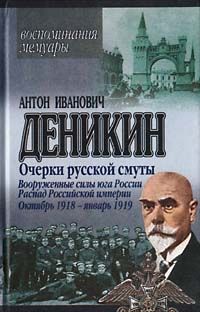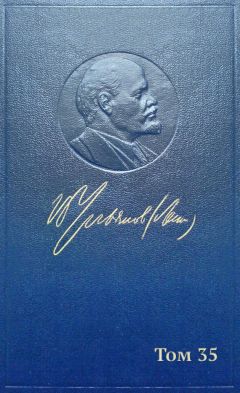Лидия Чуковская - Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
Он «упивался стихами», но и пародировал их: пушкинские, некрасовские, лермонтовские, радовался чужим пародиям – на Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока.
«Гимны» среди его критических статей редкость. Напротив, слыл он критиком зубастым, драчливым, задорным. Критические его работы всегда были анализом, разбором, острым, неожиданным, свежим, заставлявшим читателей по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомого автора (таковы статьи о Леониде Андрееве, Короленко, Брюсове, Бунине, Блоке); иногда же разборы вели к совершенному уничтожению, к убийству наповал («Третий сорт», статьи о Чарской, об Арцыбашеве, о Вербицкой). И та же его необузданная любовь к искусству, мечта окропить благодарными слезами руку Льва Толстого оборачивались ненавистью, живою ненавистью ко всякой рутине, пошлости, фальши, эпигонству – и просто недобросовестной, корыстной, ремесленно-равнодушной работе.
«Почему изнасиловать восьмилетнюю девочку нельзя и нужно за это идти в каторгу, – спрашивал он, например, в письме к знакомому, – а изнасиловать Тютчева или Баратынского можно, и это вознаграждается хорошим барышом?
Возьмите сборники избранных стихотворений русских поэтов, изданные Сальниковым, Бонч-Бруевичем, П. Я. и др., – что это, как не изнасилование всех русских поэтов сразу и поодиночке. И этих негодяев не только не вешают, но раскупают во множестве изданий».
Вот какие «гимны» являлись иногда результатом его благоговения перед Баратынским и Тютчевым. Почему тех, кто искажает великие стихи, не посылают на каторгу и не вешают?
Шутки шутками, а заряд негодования в этих строках огромен.
Думаю, для самого себя, бессознательно, он всех людей, сколько их живет на белом свете, делил прежде всего не на «плохих» и «хороших», а на талантливых и таланта лишенных. Не только в искусстве, а вообще.
Такое разделение особенно характерно было для него в молодости. Запомнилось оно мне с детства.
Приходил к нему ставить новый забор и крылечко плотник Михайла, мужик Олонецкой губернии, и сколько Корнею Ивановичу ни втолковывали, что Михайла пройдоха и вор – у одного пилу стянул, у другого ведро, – Корней Иванович только рукой махал:
– Да вы вслушайтесь, как он говорит! Что ни слово – подарок, что ни рассказ – былина! (Проведя отрочество и юность в Одессе, Корней Иванович возненавидел тамошнюю южную смесь; все, от словаря до синтаксиса и произношения, представлялось ему не только неправильным, но и пропитанным пошлостью: «Дэ-эмон», «Одэ-эсса», – насмешливо тянул он, изображая одесскую барышню. «Вы идите, а мы подойдем» или даже «надойдем», – так поддразнивал он своих одесских друзей, приезжавших гостить в Куоккалу. Для меня до сих пор остается загадкой, как за три-четыре года сам он, проведший в Одессе детство, отрочество и юность, вытравил из своей речи – раз и навсегда – все одесское и овладел богатым, сильным, безупречным московско-петербургским русским языком. Он чудесно говорил на языке Екатерины Осиповны – украинском, помнил наизусть чуть не всего Шевченко и русский язык, литературный и народный, знал до тонкости. Знал и любил.)
– Михайла тут вчера рассказывал, как ставят северные избы. «Материнская балка» – вы подумайте только, так у них называется основная балка в избе. «Материнская» (он радостно смеялся). А наличники, венцы, резьба? Да у него каждое слово резьба. Вы говорите – прогнать. Он для меня праздник. У него что топорик, что пила, что язык – виртуоз.
Михайла был художником, над ним горел нимб неприкосновенности.
Корней Иванович так привык делить людей на вдохновенно-талантливых и ремесленно-равнодушно-бездарных, что применял эти определения к обстоятельствам и явлениям жизни, казалось бы от всякого таланта далеким.
О погоде: «Здесь сейчас гениально». Дождь не вовремя слыл беспросветной бездарностью.
О ясном солнечном дне он отзывался так: «Погода сегодня боговдохновенная».
Или приятелю:
– Как это неталантливо с вашей стороны, что вы не были у нас в прошлое воскресенье.
О себе:
– Этакая я несчастная бездарность, опоздал сегодня на поезд…
В высшей степени чувствителен был он к таланту и бездарности в педагогике: в воспитании, преподавании. От преподавателя требовал увлеченности предметом и умения приохотить, очаровать. Презирал тех педагогов, которые даже Пушкиным умели не счастливить детей, не одаривать их, а отягощать. Презирал учителей и родителей, прибегавших к муштре. Утверждал, что даже закон такой существует: чем меньше у взрослого за душой, тем большее пристрастие питает он к дрессировке: «Соня, не болтай ногами!» – «Витя, как ты сидишь?» – «Сиди ровно». – «Я что сказал? Руки мыть!»
Дети и сами любят, когда ими командуют (потому что и команда причастна игре), но командуют изобретательно, весело, не по-фельдфебельски.
В бездарности и, гораздо более, в преступности взрослых, которые били детей, не сомневался он ни единой минуты. За искажение Тютчева или Баратынского следовало, выражаясь его гиперболическим стилем, «вешать» и «ссылать на каторгу»… Что же причитается человеку, поднимающему руку на ребенка?
«…побольше благоговения к детям, поменьше заносчивости, – писал он в статье 1911 года, – и вы откроете тут же, подле себя, такие сокровища мудрости, красоты и духовной грации, о которых вам не грезилось и во сне»[7].
«Сокровища мудрости, красоты и духовной грации» – это сказано не о Пушкине или Баратынском – о детях.
«…ведь детская игра и детская шалость – это святее всего»[8].
Нас с Колей он взял из куоккальской гимназии внезапно и очень решительно. Учились мы и так и сяк, ни шатко ни валко, но я сделала внезапное открытие: наш директор, Алексей Николаевич, румяный, белозубый всегда любезный со всеми родителями, – исподтишка колотит детей.
Однажды, возвращаясь из гимназии, я вспомнила, что забыла на вешалке башлык, и с полдороги вернулась. И в раздевальной увидела: Алексей Николаевич под прикрытием вешалок, засунув себе между колен голову Кости Рассадина, порет его ремнем. Бьет размеренно, удар за ударом, методически, даже как бы равнодушно. И самое страшное: зажав Косте рот рукой.
Я пустилась бежать, стараясь не хлопнуть дверью. Вернулась домой без башлыка. Я была испугана так, что дома, рассказывая о виденном, заикалась – и заикалась потом несколько дней. Я рассказывала и рассказывала, меня не могли унять, а я все не могла объяснить, что меня так потрясло. Мне ведь и раньше случалось видеть, как дрались мальчишки, как на пляже матери давали своим чадам шлепки, а отцы – подзатыльники; видела, как извозчик Колляри хлестнул однажды вожжой по босым ногам нашего приятеля Павку и тот подпрыгнул и взвыл от боли.