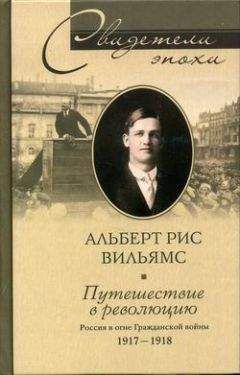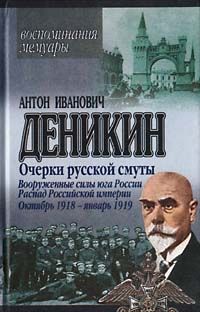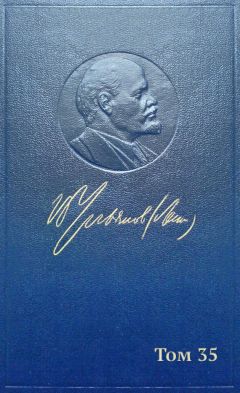Лидия Чуковская - Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
Он идет по шоссе. Женщины мостят дорогу. Возле них – дети. Почему делают тяжелую работу не машины и не мужчины, а женщины? Почему нет детского сада? Сегодня прогуливался с пожилой дамой, в прошлом учительницей, ныне писательницей, автором многих книг. Оказалось, она не знает Жуковского. Ни «Кубка», ни «Ивиковых журавлей». Может ли она считаться учительницей? Или писательницей, да и вообще – интеллигентным человеком? «Этакая лень! Этакая скука! – с гневом говорил он. – Сторож, дремучий малограмотный человек, мне интересен. Мне есть чему у него поучиться: он обладает множеством сведений, мне неизвестных, и множеством умений. Нам есть о чем поговорить. А писатель, не знающий литературы, – это выдумка, чепуха, мнимость».
Иногда же ворочался он с прогулки словно одаренный. Вот запись от 13 октября 1953 года.
«Подошел башкир, студент, без шляпы, разговорились. Крепкие белые зубы, милая улыбка. Душевная чистота, благородство, пытливость. Знает Пушкина, переводит на башкирский язык Лермонтова. Простой, спокойный, вдумчивый – он очень меня утешил – и как-то был в гармонии с этим солнечным добрым днем. Учится он в литинституте, слушает лекции Бонди. Почему-то встречу с ним я ощущаю как событие».
(Когда я наблюдала жизнь Корнея Ивановича в Переделкине, мне порою приходило на ум, что переделкинский Дом творчества писателей, выстроенный во второй половине пятидесятых годов на той же улице, где стоит его дача, велением доброго рока был выстроен нарочно для него. Люди, судьбы – и притом не те, соседские, которые он уже знал наизусть, а постоянно сменяющиеся, новые. В свободные от работы часы, совмещая прогулку со знакомствами, он приходил в Дом творчества чуть не ежедневно: иногда к друзьям, а чаще – к незнакомым, ко всем вместе, к кому угодно: в холл, в столовую. И желающие шли его провожать, и он знакомился по дороге со всеми вместе и с каждым в отдельности и зазывал к себе. Так утолялась потребность в общении с людьми, преимущественно новыми, еще не рассмотренными.
Такую же тягу он испытывал к письмам. Ведь письма – это те же люди. Приедешь в Переделкино, привезешь пачку писем, полученных по его московскому адресу. Пачка мирно лежит на столе. Но он не в силах продолжать начатый разговор: письма влекут к себе. Не то чтобы он ожидал определенного письма от определенного корреспондента. Нет. Он всегда находился в ожидании письма от неизвестного. А вдруг – словцо для «От двух до пяти»? Или для «Живого как жизнь»? А вдруг кого-то он заразил своей любовью к писателю, чью душу почитал прекраснейшей из всех ведомых ему человеческих душ? Чей путь он понял как подвижнический – в художестве и в жизни? Заразил любовью к Чехову, чьему жизненному пути и отношению к людям втайне пытался подражать?
Разговаривая, Корней Иванович жадно глядел на письма. Наконец хватал ножницы. Шевелил над пачкой длинными пальцами, выбирая, как ребенок над коробкой конфет. Приговаривал:
– И бо-о-оги не ведают – что он возьмет![5] И хищно кидался с ножницами на какой-нибудь конверт, надписанный незнакомым графоманским почерком… А вдруг там великое чудо: стихи? Не графоманские, которые ему присылали пудами, а настоящие?
Но все это было позднее – в его старости, в моей взрослости. Возвращаюсь в мое детство, в его молодость. Там, в детстве, в Куоккале, он всегда брал нас с собой глядеть – как строят дом, чинят дорогу, роют колодец, прокладывают железнодорожный путь. Техника, впрочем, его не занимала, хотя он и бурно восхищался человеческим гением, запечатленным в ней. Ничего технического он не понимал – хотя и звал дивиться телеграфу, а потом полету на Луну. Его изначально, всегда, смолоду до восьмидесяти семи лет, интересовали люди. Который из них работник, мастер, а который так себе, тяп-ляп? Мастерство – всякое – уважал чрезвычайно. И любил вслушиваться в живую речь.
Но как бы ни занимал его всякий труд и всякий человек, самым интересным явлением в мире было для него создание искусства и самым интересным человеком – создатель, творец, человек-художник. Человек, создающий художественные ценности. В особенности – литературные.
(По внешним следам стиля проникнуть внутрь создателя – не из этой ли потребности явились на свет все критические работы Корнея Чуковского?)
Труд в искусстве. Кисть, карандаш, перо. В особенности перо.
Человек, творящий литературу. Талант.
С этим интересом в его жизни не мог сравниться никакой другой. С благоговением, культом, воздухом которого мы дышали сызмальства.
В молодости, в 1905 году, Корней Иванович писал жене:
«На меня искусство так действует, что я у художника руки готов целовать».
В 1908 году он написал статью: «Толстой как художественный гений». Через полстолетия, снова готовя ту же статью к печати, он назвал ее во вступительных строчках «юношеским гимном» Толстому.
Статья была разбором, как всякая статья Корнея Чуковского, но в то же время и в самом деле своего рода гимном.
Оканчивалась она такими словами:
«…вдруг поражаешься мыслью…: это нигде, нигде… в мире не могло создаться, как только у нас, и… умиляешься до слез, и чувствуешь, что не было бы большего счастья, как припасть к этой старческой руке, осчастливившей нас, оправдавшей нас, благословившей нас… и покрывать ее благодарными слезами».
Это будто бы из того же письма, написанного тремя годами ранее:
«…я у художника руки готов целовать».
В центре его духовного мира более шести десятилетий стояло искусство. Человек искусства. Единственность, неповторимость этого таланта, несхожесть его ни с чьим другим.
В последней своей статье, напечатанной посмертно[6], он называл себя «смиренно-восторженным слушателем» великих лирических поэтов начала века. Действительно «смиренным», потому что за собою таланта он не признавал никогда. (Вот цитаты из писем и дневников разного времени: «Какой же я писатель? Чернорабочий, фельетонист, газетчик», «Никогда я не считал себя талантливым…», «О своем писательстве я невысокого мнения, но я грамотен и работящ».) И действительно «восторженным»: над головою человека талантливого загорался и сиял перед его глазами некий нимб (к его удивлению, не всегда доступный зрению других), зажигалось некое солнце, в лучах которого, особенно в первую пору влюбленности, тонули, даже для его насмешливого и зоркого глаза, все человеческие недостатки талантовладетеля.
Однако восторг перед творениями таланта вызывал в Корнее Чуковском отнюдь не одно лишь желание славословить и воспевать.
Он «упивался стихами», но и пародировал их: пушкинские, некрасовские, лермонтовские, радовался чужим пародиям – на Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока.