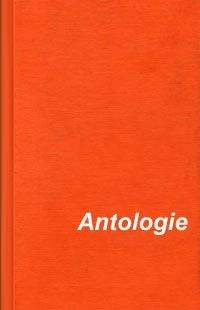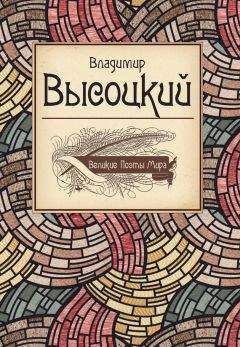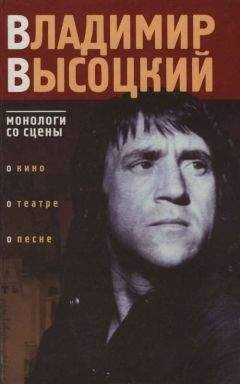Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых
Окололитература берет верх над собственно литературой. Включая интервью, но не только: предисловия, послесловия, комментарии, биографии, встречи с читателями, письма, а теперь вот емельки. И это, пожалуй, естественно. Как с таблицей умножения, с этим не поспоришь. Ежу понятно.
Лично я в последнее время только и делаю, что даю интервью, тусуюсь в здешних русскоязычных панафинеях то ли сатурналиях — в зависимости от времени года, а точнее, в «русских ночах», если воспользоваться названием когда-то знаменитой книги князя Владимира Одоевского, и напрямую, без посредников, во встречах с читателями. Вылез из своей берлоги и пошел по рукам. Здесь, в Нью-Йорке, — раздолье: несколько теле— и радиостанций с открытым эфиром, множество газет и библиотек с русским контингентом книгочеев, тусовки-русскоязычники. «Большим событием в культурной жизни Нью-Йорка стала встреча с читателями Владимира Соловьева…» — зачин статьи в «Русском базаре», одной из многих в Америке русских газет. Сколько с тех пор прошло таких литвстреч у меня от океана до океана — от Лонг-Айленда до Силиконовой долины.
На таких встречах мы с Леной подписываем автографы. Работа не пыльная, а хоть какой да заработок. Такие встречи стали рутинными — в публичных библиотеках, домашних салонах, литературных клубах, да хоть в доме для престарелых, который «престарелые», крепкие и разумные старики и старухи, называют «детским садиком», и не живут здесь, а ежедневно посещают: играют в шахматы, спорят, сплетничают, интригуют, смотрят кино или слушают таких вот гастролеров, как мы с Леной Клепиковой. Я уже застолбил жанр устного разговора. Нет, не чтение отрывков из новых или еще не дописанных книг, а чат с читателем. Здесь, в русскоязычном Нью-Йорке, я — царь и бог (точнее, как сказала мне главред «Русского базара» Наташа Шапиро: «Вы не бог. Вы — заместитель бога»), а где я там, на моей географической родине, несмотря на обойму с две дюжины книг? Живи я там, но я живу здесь. Глисты жили счастливо и весело, пока не узнали, где живут. Преимущество мемуариста: лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Лучше быть беспризорной собакой, чем львом в клетке, хоть общеизвестно: животные в неволе живут припеваючи и в два-три-четыре раза дольше, чем на воле. Два разных времени — в клетке и на свободе. Клетка — это законсервированное время, как на каре Брана из кельт ской саги. Забыли? Я устал ссылаться на эту чудную историю, похожую на «Одиссею».
Какая судьба ждет меня в моей стране? Может, я и не езжу туда уже четверть века, боясь узнать, что давно уже прах и среди мертвецов сам — мертвец. Ау! Нет больше нигде на свете Владимира Исааковича Соловьева, а есть Vladimir Solovyov, но какое мне до него дело? Как ему — до меня? Ося Бродский — и Joseph Brodsky. Я пишу про обоих, путая правду со сплетней, как и должно биографу, хоть он и не папарацци. Иногда даже жаль — сколько потаенных, сокровенных мыслей я передал своему герою, переплетя с его собственными, а где благодарность?
От покойников еще меньше, чем от временно живых. Или мы квиты? Черчилль считал, что написание книги — целое приключение: «Сначала книга — не более чем забава, затем она становится любовницей, женой, хозяином, наконец тираном».
Я бы добавил: и тюрьмой.
Вспоминаю последние книги о Прусте, Пикассо, Эйнштейне и прочих титанах — там о них сказано все как есть, с подробностями личной жизни, пусть те и малопривлекательны, а то и отвратительны, как у Пикассо: особенно с близкими, с женами, а внука довел до самоубийства. Прусту приносили в постель двух мышей, сажали в одну клетку, те начинали кровавое побоище — и только тогда мой любимый писатель достигал оргазма. Воображения на секс уже не хватало.
Только на прозу.
Зато какую! Его последний том «Обретенное время» — на уровне первого «В сторону Свана».
А Лимонов вот и Пушкина относит к монстрам. Не знаю. Зато знаю, что лучшую книгу о Пушкине написал бы Дантес.
По-французски.
Если бы не трагическая та дуэль.
Кто сказал, что великий художник должен быть жизненным примером для подражания? Делать жизнь с кого? Только не с художника! А поэт и вовсе патология — уже тем, что мыслит стихами. Значит, и во всем остальном. Если Бродский называл себя монстром, пусть не без ласкательства к самому себе, но и считал себя им, сожалел о многих своих поступках — это общеизвестно. А остальные? Лермонтов — задира, злослов, мизантроп, многие теперь оправдывают Мартынова (в их числе его правнучка, с которой я здесь знаком) — что тому оставалось по тогдашним понятиям чести, когда Лермонтов каждый день над ним измывался и оскорблял? Да мало ли! Патологическое, воинствующее нематеринство Ахматовой, крещенский душевный холод Блока, садизм Есенина, Некрасов — картежный шулер, Фет забрюхатил любимую девушку, и она покончила жизнь самоубийством, потому что он отказался жениться на бесприданнице, Пастернак предал Мандельштама в телефонном разговоре со Сталиным, Мандельштам заложил на допросе всех, кому читал свое стихотворение о Сталине. Что нисколько не умаляет их поэтических достижений.
А мне тут один радиожурналист, опять-таки интервьюируя меня, говорит, что, узнав про солитера у любимой им Марии Каллас, не может больше ее слушать. Меня как раз глисты меньше всего интересуют. Воспринимаю человека, о котором пишу, не на физиологическом, а на психологическом, поведенческом, душевном, метафизическом уровнях. Но здесь уже не может быть никаких табу. Тот же Плутарх писал о греческих и римских лидерах все, что о них знал, включая, само собой, и сплетни. А как же без них? Сплетни — часть образа того, о ком сплетничают.
Не впервые обратился я к биожанру, хотя ни разу еще так не усложнял себе задачу и не скрывал, пусть и секрет Полишинеля, главного героя под псевдонимом. Потому что в прежних книгах, сочиненных вместе с Клепиковой — об Андропове, Горбачеве, Ельцине, Жириновском, чуть не за каждую получили по миллиону, как неимоверно завышала наши гонорары советско-российская пресса, для которой цифра ниже не представляет интереса — мы писали открытым текстом, без псевдонимов, метафор и иносказаний. Правда, в последнюю совместную книжку про Довлатова, где у Лены топографический передо мной перевес (она знала Сережу не только по Питеру и Нью-Йорку, но и по Таллину, пробной его эмиграции), я включил рассказ «Призрак, кусающий себе локти» — про Довлатова, но не совсем, а потому под псевдонимом. Как и в упомянутых «Сердцах четырех», где легко угадываются прототипы: Камил Икрамов, Володя Войнович, Фазиль Искандер и Олег Чухонцев. И опять не один к одному. Ceci n’est pas une pipe, хотя на этой картине у Магритта изображена именно трубка. Одно — художка, а другое — политические био под американский издательский договор, реал в чистом виде, с подлинным верно и указание на судебные издержки.