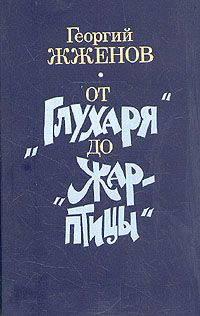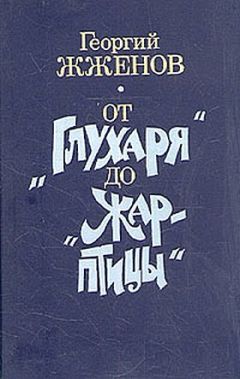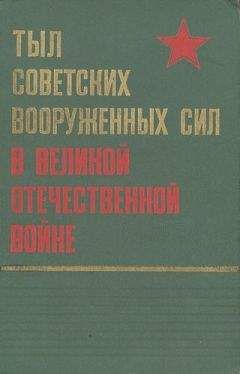Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)
С 1952 года, после моего отъезда в Россию, жизнь в Софии потекла без меня. Мой брат окончил школу и поступил в медицинский институт. Папа дружил с Вовкой – тот мог запросто войти к нему в кабинет, усесться в кресло и болтать на разные темы, ничуть не смущаясь, что отрывает папу от работы. А эта болтовня, которой я стеснялась, ради которой никогда бы не посмела вот так бесцеремонно обратить на себя внимание, она-то и была общением и порождала близость, такую дорогую для меня, такую желанную. У меня двое взрослых сыновей, и теперь я это понимаю. Да здравствует чепуха, будь благословенна шутка, болтовня! Вовка приходил и к маме в комнату, садился на кровать в ногах, прерывал ее постоянное чтение и говорил часами. О чем? Я так не умела. Я не умела шутить, я не умела просто болтать.
Именно в то время Вовка придумывает прозвища: начинает звать папу Дембо, маму – Мэц или баба Мэца, а меня – Крети (от слова «кретинка»). Он чувствует себя любимым сыном. Теперь, под конец жизни, банальная аксиома: все родители любят своих детей – не представляется мне столь уж очевидной. Как сказал Л. Н. Толстой, «сколько голов – столько и сортов любви». Мои родители обладали редким даром любить.
– Дембо, Дембо, – говорит Вовка и входит в кабинет. – Дембо, десять левов дай-ка.
Папа, отрывая взгляд от бумаг, смотрит на сына, медленно вынимает кошелек из ящика письменного стола и отсчитывает нужную сумму.
– И книжку антифашистскую, ты же все равно ею не пользуешься.
В трамвае Вовка небрежно показывает эту книжку (документ антифашиста), дающую право на бесплатный проезд. Он, родившийся в 1938-м, не опасается кондукторов и контролеров.
И так день за днем. Да, в Софии жизнь шла без меня. Так же светило солнце, так же прекрасен был неповторимый софийский воздух, цвела глициния, свешиваясь большими синими и белыми гроздьями с балкона, и огромная агава на парапете разбрасывала в стороны свои острые мясистые листья. В углу балкона возвышался огромный фикус, посередине – плетеные кресла и столик. По утрам мама ходила на базар, торопилась сготовить обед, потом ложилась, и тут приходил папа. Мама спешила навстречу.
– А ты все вылеживаешься, рыльская принцесса? Все романчики почитываешь? – шутя говорил папа, оглядывая маму, снимая шинель.
В Болгарии, как во всех южных странах, рабочий день начинается рано. Вся семья вставала в шесть-семь часов утра. В холле, хранившем тепло вчерашнего вечера, зажигалась старинная итальянская люстра. (Огромную чугунную печку мама топит только после возвращения с базара.) Все быстро умываются холодной водой на кухне – если колонка в ванной опять испортилась. Пьют чай. Папа держит серебряный подстаканник с надписью: «Дорогому папе от Инги» (подарок, купленный с первой стипендии; а потом ежегодная просьба привезти стаканы – в Болгарии их не было).
– Ох-ха! – громко вздыхает папа. Но ни маму, ни Вовку это не раздражает. Напротив, через несколько лет я услышу «ох-ха» из уст брата.
Мужчины уходят один за другим. Сначала Вовка, потом папа. Вовка спешит на лекции, папа – на работу, сначала в институт, потом на кафедру. Быстро спускаются с горки, садятся в трамвай. Папа – в шинели, посередине фуражки – выпуклость от его макушки. До сих пор екает сердце, когда по телевизору вижу военного того времени – та же выправка, та же манера быстро шагать, та же шинель.
Летом на кафедре я встречала невысокую, полноватую женщину, в белой кофточке, – секретаря Кузманову. Мы не испытываем симпатии друг к другу. Мне кажется, она улыбается папе слишком фамильярно, передо мной – заискивает, но безуспешно: я вижу хитрую, моложавую женщину, крашеную блондинку, старающуюся понравиться папе. В институте папу ждут Аргиров, Шишков… Папа работает. В два часа звонок:
– Вера, что на обед?
…Папа, голодный, быстро ест горячую котлету, давится, глотает.
– Ты – как пес, – смеется мама.
Вовка тоже прибегает голодный, вбегает на кухню, и оттуда доносится звон крышек. Потом тяжелой походкой идет к себе в комнату, ложится на кровать, накрывается с головой старинным тканым мексиканским ковром с изображением бога Вицли-Пуцли. Спит долго. Мама входит в комнату:
– Вова, вставай, пора заниматься.
Он встает, умывается, причесывается и отправляется на прогулку. С кем он проводит время, никто не знает. В один прекрасный день в квартире появляются несколько молодых людей, его знакомых. Папе хватает одного взгляда.
– Что это за люди?
– О, это прекрасные ребята, они обещают меня устроить…
– Эти ребята – из Внутреннего министерства (МВД. – Ред.), ты не успеешь оглянуться, как они тебя завербуют!
Вовка кричит:
– Ты всегда со своей подозрительностью! Ты не веришь людям! Это прекрасные ребята! Они обещали…
– Дурак! Они тебя запутают так, что ты потом не вывернешься! Чтоб духу их здесь не было!
И молодые парни, гладкие, без отличительных черт, исчезают.
Папа после обеда тоже ложится спать. Потом садится за стол, он торопится – пишет учебник.
Но вот приезжаю я. Все изменяется. Вовка где-то в тени, на втором плане. Я царю в доме, мне и в голову не приходит, что весь год с родителями, которые сейчас заняты мной, проводит брат. Сейчас мама – это уже одно целое не с папой, а со мной. Папа пытается примкнуть к нашему союзу, но безрезультатно.
Я была уверена – мамина жизнь кончается с моим отъездом. Теперь, читая папины письма, я вижу – любил папа маму и мама любила его, это была благополучная семья. Но тогда я считала, что мама несчастна. Именно в это время моя любовь к ней становится немного болезненной. В чужой стране мама по-прежнему одна: с ней общается лишь тетя Мара. Папа с утра до ночи занят. У него насыщенная жизнь, он радостен и весел. А мама? И боль к маме терзает меня.
Папа не знает, как ко мне подступиться, старается изо всех сил! И вот он повязывает фартук, закатывает рукава и готовит мясной рулет с запеченным внутрь желтком, нарезает на ломтики.
– Как в ресторане, – гордо говорит он, и я сразу настораживаюсь, думая: «Ты ходишь в ресторан, а мама сидит одна». Мне искренне жаль маму.
…– Мама, такой, как ты, нет на свете. Ты самая добрая, ты никогда не кричишь, ты о всех заботишься…
Мы идем вдоль канала, по улице Евлогия Георгиева, в русскую библиотеку, в Дом болгаро-советской дружбы, я держу ее под руку:
– Ты совершенно не думаешь о себе, не жалеешь себя…
Я говорю и говорю, а мама смущенно слушает, потом поворачивается ко мне:
– Ну, ты уж меня просто святой сделала.
Я смотрю – лицо, не тронутое косметикой, широкие серые брови, чуть влажные, продолговатые, странного разреза глаза… Если изображать, как выглядит душа, – я бы нарисовала лицо моей мамы…