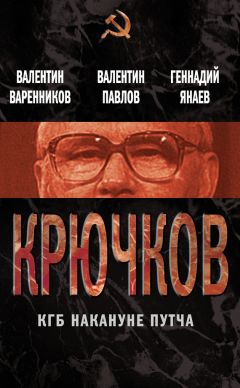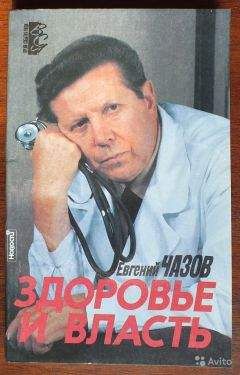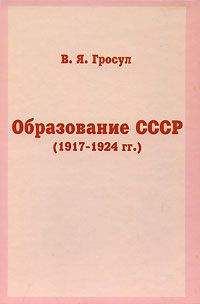Евгения Гутнова - Пережитое
К концу же гонки он страшно обессилил, безмерно похудел, снова начались боли — ему объясняли, что это послеоперационные спайки. Не знаю, верил ли он или не верил этому, но сам заговорил о больнице. В апреле Алла с большим трудом устроила его в Онкоцентр, куда послеоперационных вообще не берут. С этого дня в течение трех месяцев я была прикована к дому отчаяния на Каширском шоссе. Лешу стали лечить химией без надежды на успех, только, чтобы что-нибудь делать. Лечение проходило мучительно, чувствовал он себя все хуже и хуже, однако, видимо, развитие болезни замедлялось. Повторялось все, что пришлось пережить пять лет назад с Эльбрусом. Теперь все было еще страшнее, ужаснее и безысходнее. Я видела, как мой мальчик уходит от меня, ускользает из моих рук, не оставляя мне в жизни ничего. На этот раз он понимал, что умирает, хотя не говорил со мной об этом и все время старался работать — несмотря на отсутствие сил, он много читал и, как мне кажется, задумывался о том, к чему не привык, — о боге, о смерти, о вечности.
Ему сделали еще одну операцию, чтобы устранить непроходимость кишечника. У хирурга-онколога, который наблюдал Лешу в Онкоцентре где-то теплилась надежда, что, может быть, его предшественник ошибся и есть шанс спасти больного. Тяжелая операция была сделана превосходно, но никаких кардинальных изменений не принесла, лишь подтвердив прежний диагноз и сняв начавшуюся непроходимость. Леша стал немного есть, и через месяц его снова выписали домой. Сильные боли у него прекратились, он только слабел с каждым днем. А Сашенька в эти дни кончала школу, и ни Леша, ни Алла не смогли пойти на выпускной вечер — пошла я. Там ей вручили аттестат с медалью, и она уехала в клуб танцевать. А я вернулась к своему безысходному горю.
Через две недели Леше стало совсем худо, началась водянка — лимфостаз. Каждые два-три дня ему спускали воду. Пришлось снова вести его в Онкоцентр. Мы ехали на машине, было 1 июля, я смотрела в окно и ясно осознавала, что везу его на смерть, совершаю с ним его последний путь из жизни. С этим невозможно было смириться, как я вынужденно смирилась со смертью Эльбруса. Ведь Леше всего сорок девять лет, он был в расцвете сил и энергии, таланта и ума. За что же ему предстояло умереть так рано? За то, что отдавал себя без остатка работе, жег себя с двух концов в том застойном болоте, в котором мы жили, чтобы хоть чего-то добиться?
А теперь он оставлял семью, не оперившихся детей и меня, перед которой маячила только одинокая старость, — ведь нет ничего страшнее пережить своих детей. Как сказала мудрая тетя Соня на похоронах моей мамы, «дети должны хоронить своих родителей». Я же должна была присутствовать при последних днях своего единственного и такого необыкновенного сына. Так прошли последние две недели. Каждое утро я приезжала к нему и проводила у него до пяти-шести часов, когда после работы приходила Алла, остававшаяся до вечера, а иногда и на всю ночь. Леша был в полном сознании, но очень ослаб, с трудом вставал, хотя и не переставал это делать.
Боли уже не мучили и, странным образом сохранялся аппетит, хотя есть уже почти не мог из-за тут же начинавшейся рвоты. Иногда он читал, иногда мы разговаривали с ним, чаще всего о политике, о чернобыльской аварии, которая давила на нас всех. Но обсуждать с ним наше будущее уже не могли. Я только садилась около него, брала в свои руки его горячую, пульсирующую ладонь и тихо сидела возле. Бешеный пульс, который я ощущала, отсчитывал последние дни, минуты и часы его жизни. Сердце не могло долго биться в таком темпе, оно должно было разорваться. А он все говорил мне: «Мама, ты не дергайся». Но я знала, что ему ясно его состояние, что он ждет конца, что много думает о нем и что ему безумно жалко уходить из жизни. Это видно было по его глазам, по изредка вырывавшимся словам. Только один раз, когда я сидела возле него рука в руке, он слабо пожал мою, и я в первый раз за все это время заплакала: «Если с тобой что-нибудь случится, я не смогу жить». На что он тихо мне ответил: «Нет, мама, ты должна жить. Тебе надо еще поставить на ноги Митю, ну а уж Сашка будет „сын полка“». Саша в это время сдавала экзамены в архитектурный институт.
Алла творила все возможное и невозможное, чтобы спасти Лешу. В последние две недели она достала вытяжки из акульей печени, которые, как считали некоторые, лечили рак, притащила к нему какого-то специалиста по тибетской медицине. Но чувствовалось, что все напрасно, что болезнь съедает его, живет он последние дни…
Это случилось в ночь с 13 на 14 июля 1985 года. Я, как всегда, оставалась в палате до вечера, когда пришла Алла и Лешина аспирантка из Казани. Я стала прощаться с ним до утра. Поцеловала его в горячий лоб. И он мне сказал: «Мама, береги себя, не дергайся — ведь это еще может продлиться некоторое время». А ночью Лешенька умер. У него, как я и предчувствовала, случился инфаркт. Он потерял сознание и умер, не приходя в себя. Об этом сообщили из больницы только утром. Н.А.Хачатурян заехала за мной, и мы помчались на такси на Каширку. Но Лешу уже забрали из палаты, в морг, и я больше не смогла увидеть его теплого, осененного ушедшей жизнью.
Надо мной распростерлась страшная тьма. Я осталась одна, со своим невыносимым горем, во мраке отчаяния. Лучше бы умереть тогда! Но в мозгу моем звучали слова Леши, что я должна жить для Мити, и это была единственная ниточка, которая привязывала меня к жизни. Впрочем, я не осталась одна. Мой любимый брат Лева приехал и стал жить у меня. Коллеги навещали меня по очереди, звонили по многу раз в день. Все старались окружить меня лаской и заботой. И надо было жить. Прошли похороны, поминки — все эти нужные или ненужные ритуалы. Над гробом Леши прозвучало много теплых хороших слов. Но что значили слова в сравнении с его единственной, неповторимой жизнью, которую я дала ему и которую злые силы так жестоко вырвали из моих рук. Хорошо, что Леша за день до смерти успел узнать, что Сашу приняли в Архитектурный институт.
Со смертью сына кончилась моя настоящая жизнь. Те пять лет, что прошли с тех пор, я жила по инерции, без радости, без счастья, без надежды. Работала — и очень много, чтобы забыться, появлялась на научных сборищах и заседаниях, делала доклады, ездила отдыхать — но все это как-то автоматически, без желания, без удовлетворения. Как и раньше, происходили события, разворачивалась перестройка, вокруг бушевали новые вихри. Но ощущение, что жизнь моя кончена и что нужно только достойно ее дожить, не оставляло и не оставляет меня. Как будто погас свет; озарявший мою жизнь, и открылся темный, холодный туннель впереди. Я осталась совсем одна. Появился страх, что когда я умру, некому будет схоронить меня. По существу, впервые в жизни я оказалась вне семьи.